Япония без вранья. Исповедь в сорока одном сюжете - [8]
Все триста лет периода Эдо, поскольку практически вся социальная мобильность была под запретом, общество гордо стояло на месте. Тогда не было конкуренции между учениками, ведь сын крестьянина мог стать только крестьянином, а сын торговца — только торговцем. Понравилось ли бы мне жить в то время — не знаю. Но знаю школьную систему, которую ввели под лозунгом «Карьера и успех» в конце девятнадцатого века, чтобы как можно скорее — путём соревнования всех против всех — поравняться с Западом. Эту систему мне приходится испытывать на своих детях. И здесь издержки гораздо больше на виду.
Родительские комитеты с их вечным недоверием к учителям, вечными подозрениями, что их ребёнка учат хуже остальных. Забитые учителя, зажатые в тиски между родителями и министерством образования, вкалывающие с утра и допоздна, с бесконечными никому не нужными клубами, сессиями самокритики да канцелярщиной. И дети, которым родители говорят: «Соревнуйся, будь лучше других», — в то время как школа, следуя очередной директиве сверху, то вводит новые экзамены, то начинает втолковывать им доктрину пресловутой японской гармонии — мол, все мы одинаковы. Каждый класс становится или казармой, или бедламом — просто потому, что учитель для общества — ещё одна профессия в сфере обслуживания. Его авторитет основан на морали или религии. У него не ищут совета в житейских делах. Он — выбираемая случайность, и ему не верят.
Каждый раз, когда, следуя некой школьной проформе, с визитом на дом в костюме и кроссовках ко мне приходит очередной нервный классный руководитель одного из моих детей, я стараюсь показать ему, что верю ему на все сто. Что он не должен отчитываться передо мной, что для меня он не обслуживающий персонал, а что-то неизмеримо большее, что я считаю его высшим авторитетом и в сфере обучения, и в сфере морали — даже если он мне кажется последним идиотом, даже если я вижу, что у него нет за душой ничего, кроме желания прожить тихую жизнь на стабильную учительскую пайку. И они проводят положенные пятнадцать минут и уходят с некоторым, как мне кажется, облегчением, хоть и знают, что уже в следующем доме их ждёт совсем другой приём.
В прошлый раз, провожая одного из них, я вышел с ним вместе на дорогу и смотрел, как этот неуверенный в себе худощавый парень, не так давно закончивший университет, удаляется в сторону дома следующего ученика. Шёл дождь, и мой гость в чёрном костюме и с чёрным зонтиком в руках довольно ловко перепрыгивал в своих кроссовках через лужи, напоминая слегка подмокшую ворону.
И я вдруг вспомнил монаха, его толстенные ноги и твёрдую поступь. Тот всегда ходил в деревянных гэта. И шёл бы прямо по лужам.
8. НЕПЕРЕВАРЕННАЯ ПРАВДА
Дочка отложила палочки для еды и гордо продекламировала по-японски своё трехстишье:
— Мы же все люди и дискриминации твёрдо скажем «нет».
Затем сделала эффектную паузу и спросила:
— Хорошо, да?
— Нет, не хорошо, — сказал я.
— Почему? — обиженно говорит она. — Всё же правильно! Между прочим, именно моё выбрали в школе на стенку повесить — на «Неделю прав человека».
Я молчу, не зная, что сказать. Советское детство научило мгновенно отличать правду от пустого официоза, но как девятилетней японке объяснить, что одно хорошо, а другое нет?
— Потому, — наконец говорю я, — что если что-то правильно, это вовсе не значит, что это правда.
У дочки в глазах недоумение. Я безуспешно пытаюсь сообразить, что сказать дальше. Тут моя японская жена достаёт из стопки бумаг, приготовленных на выброс, тонкую брошюрку, которую кто-то с наилучшими намерениями сунул нам в почтовый ящик, и кладёт её на стол перед нами. На обложке — картинка. Платформа метро, подъезжающий поезд, жёлтые полоски рифлёных плиток вдоль края платформы, слепой, нащупывающий дорогу чёрной тростью, а на переднем плане — нога служащего и портфель, стоящий на пути слепца прямо на жёлтом рельефе. И надпись: «Задумаемся об инвалидах».
— Гляди, — говорит жена дочери. — Во-первых, палки у слепых уже сто лет не чёрные, а белые — чтобы зрячие отличали их от обычных тростей. Во-вторых, слепые никогда не ходят по этим идиотским плиткам — их всегда кладут так близко к краю платформы, что пойдёт по ним только сумасшедший. А в-третьих, подумать об инвалидах надо не этому типу с портфелем на картинке, а самому художнику, который про слепых не знает ни черта. Видишь? Всё вроде правильно, а правды — ноль.
Дочка медленно кивает. А я начинаю думать.
Большая часть японского образования — да и вообще практически всей городской жизни — построена на повторении канонов. Даже на кафедре антропологии, где я учился — одной из лучших в Японии, — аспиранты на семинарах в основном только пересказывали ими же наскоро переведённые работы западных учёных, а собственное мнение — если таковое и было — сводили к минимуму. Любые попытки отойти от шаблонов либо встречались лёгкой усмешкой преподавателя, либо — если идея была сколько-нибудь толковой — разбивались им же в пух и прах. Первые года два я не понимал, зачем нужна эта зацикленность на правильности всех высказываний. А потом понял: с точки зрения японского истеблишмента, самовыражение возможно только при мастерском владении всем багажом — научным или каким-то ещё, — поэтому право сказать хоть что-то от себя и даётся только тем, кто уже отмаялся в среде не меньше лет семи-восьми.
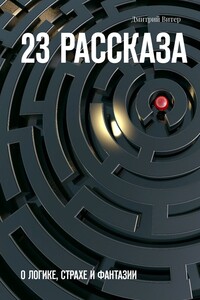
«23 рассказа» — это срез творчества Дмитрия Витера, результирующий сборник за десять лет с лучшими его рассказами. Внутри, под этой обложкой, живут люди и роботы, артисты и животные, дети и фанатики. Магия автора ведет нас в чудесные, порой опасные, иногда даже смертельно опасные, нереальные — но в то же время близкие нам миры.Откройте книгу. Попробуйте на вкус двадцать три мира Дмитрия Витера — ведь среди них есть блюда, достойные самых привередливых гурманов!

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

