Якоб спит - [8]
Дабы усилить эффект от падения этой мирной бомбы, мехи инструмента по указанию органиста наполнили водой.
С молчаливого одобрения всей похоронной команды плачущая фисгармония с глухим треском взорвалась на деревенской площади рядом с аптекой.
И вряд ли в деревне была хоть одна семья, которая не поспешила бы в тот же день разжиться реликвией в виде клавиши из слоновой кости или хотя бы мокрой щепки. На память о заключении мира.
Отец Сони разостлал на могиле Франца свой клетчатый носовой платок с надписью «Ост-Вест». Платок был размером с парашют. Сонин отец высморкался в него.
Над похоронной командой кружила серая машина Федеральной топографической службы.
17
В день своего двадцатилетия Франц, временно отлученный от семьи, пешком вернулся домой через Сен-Готард, чтобы в первый раз эмигрировать на Аляску, где он плевался ледяными кубиками, прислушивался к звуку, с которым мощная струя его мочи вдребезги разбивается о замерзшую землю, и преломлял рыбу с двумя своими женами-эскимосками.
И там же, на берегах реки Юкон, он однажды после охоты остался лежать на снегу с размозженной ногой, а белый медведь приволок его назад, в лагерь охотников.
Из ледяных пустынь Аляски Франц приехал на короткую побывку домой и, уступая просьбам очарованных слушателей, снова и снова живописал эти события у нас в «конторе». Пока публику не бросало в дрожь. Дед, сердитый на своего непутевого сына, заслушавшись, остывал и сменял гнев на милость: мужской компании необходимо было срочно согреться стаканчиком шнапса.
Именно Франц окрестил моего младшего брата Солнышком, но и меня он тоже любил.
Я покидал тесную комнату, усаживался в другом конце коридора под шварцвальдскими часами и брал в руки гирьки в виде еловых шишек. Часы останавливались.
Больше всего мне хотелось бы вышвырнуть эти железные гири из окна веранды на мостовую, чтобы раз навсегда покончить счеты с временем. Но тут меня настигало сочившееся из-под пола тепло хлебной печи. И моя печаль по Францу становилась странно уютной.
Я снова опускал гирьки.
Франц умер, и у отца больше не было брата, который заботился о нем, о котором заботился он. У него оставались только мы, его дежурная служба, личная охрана. Эпилептическая скорая помощь. Пока он бился в припадке, мы стояли вокруг, нетерпеливые, бледные, ожидающие его возвращения. Моего младшего брата мы усаживали лицом к стене, чтобы он не видел и не переживал. Иногда отец смеялся, уже поднимаясь на ноги. Делал вид, что ничего не случилось. Или рявкал на нас, как раненый зверь.
Однажды, прислушиваясь всю ночь напролет, но так и не услышав его храпа, я прокрался в комнату родителей, чтобы приложить ухо к его рту и убедиться, что он дышит.
Мама тогда тоже не спала. Она взяла меня за руку и через рождественский флигель, мимо отцовских книг и своего черного пианино, мимо серых облаков мягкой мебели отвела обратно в постель.
В свете темных лун, сиявших сквозь ее ночную сорочку, я снова уснул.
18
Труднее всего нам приходилось во времена относительно безболезненные. Мы не выдерживали латентности новых ран, сразу же переключались на чужие страдания, а их мы переносили намного хуже, чем собственные горести.
Поэтому мы предусмотрительно резали себе пальцы, ошпаривали кипятком бедра, ломали то лопатку, то ребро. Мы приносили жертвы безмятежному состоянию, задабривали его подачками, прежде чем наступала настоящая беда, и мама, осунувшаяся, со стиснутым ртом и побелевшими волосами выходила из клиники, которую нам из лучших чувств рекомендовали наши клиенты. Дескать, там ее вылечат от все обострявшейся депрессии.
Несмотря на мамино слабое сопротивление, мы с отцом поместили ее в санаторий.
Поехали, сказала мама, когда через несколько недель мы снова погрузили ее чемоданы в машину. Она даже ни разу не оглянулась на поганку в съехавшей набекрень шляпке, которая, стоя в дверях, наблюдала за ее выпиской.
Дома она первым делом засунула куда-то свою электрогрелку, всегда служившую ей для согревания холодной постели. И категорически воспротивилась приобретению новой, улучшенного образца.
Боялась, что ее ударит током.
Пройдя вдоль маминых куртин с розами, попадаешь в южный угол тесного сада, где мы с дедом посадили два дерева: тополь по случаю рождения Солнышка и немного запоздалую, зато внушительную липу — в честь меня самого.
Почти не разговаривая друг с другом, мы вскопали землю, воткнули саженцы, натянули шнуры, принесли воду.
Через три года кто-то из очередных покупателей дома убрал тополь, возможно, по настоянию «Швейцарских железных дорог». С момента своего возникновения эта компания неутомимо прокладывала крутые, но нерентабельные участки нашего «Восточного экспресса» — прямо вдоль нашей садовой изгороди.
Дерево повалили примерно в то время, когда умер брат. Мы заказали могильный камень. На нем было высечено солнце, а под изображением солнца оставлено место для имен родителей. Всего через несколько лет они уютно расположились рядом с ним.
Однажды, в звездную январскую ночь, я усадил их на Пояс Ориона, любимое созвездие моего отца на зимнем небосклоне. А Солнышко поместил между ними. Они болтали ногами в космосе. И не боялись.
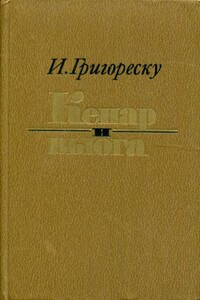
В сборник произведений современного румынского писателя Иоана Григореску (р. 1930) вошли рассказы об антифашистском движении Сопротивления в Румынии и о сегодняшних трудовых буднях.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.