Я твой бессменный арестант - [6]
Солнце исчезло в чреве тучи-дракона, огнем запалив ее кайму. День догорал багровым заревом.
Призывное треньканье звонка возвестило о времени кормежки.
— На линейку, малокровные! — всплеснулись обрадованные голоса сорвавшихся с мест ребят.
Все хлынули в зал, с галдежом выстраивая неровный живой частокол стриженных кумполов. Голос Горбатого проверещал:
— Кто последний? Я за вами брить на жопе волоса!
Мы, новенькие, замкнули строй. Рослый мальчишка с едва пробившимися темными усиками бойко отрапортовал воспитательнице:
— Группа построена на линейку перед ужином! Староста Захаров.
Гуськом потянулись в столовую, где два громоздких, составленных буквой Т стола распростерлись на всю комнату. Их опоясывали неустойчивые, топорно сработанные скамейки. На ядовито-сизых от скоблежки досках столов теснились ровные ряды розоватых пластмассовых мисочек с размазанной по донышкам жижицей перловки, подкрашенной мучной подливкой. Возле мисочек лежали тоненькие, строго взвешенные порции влажного ноздреватого черного хлеба с одним, иногда двумя крохотными довесками.
— Из столовой хлеб не выносить! — предупредила воспитательница. Она ужинала за отдельным столиком в углу.
Настал желанный миг. Глухо, вразнобой заскребли, забарабанили ложки. Кашу уписывали сосредоточенно, не поднимая глаз, а прикончив, насухо вылизывали языками потертые донышки. Трапезу завершили подслащенным сахарином чаем.
С хлебом расправлялись по-разному. Одни торопливо хватали пайки и жадно совали их в рот, другие старательно обкусывали корочку, а кисловатый мякиш боязливо прятали за пазухи или в карманы.
Горбатый демонстративно глянул на кухню сквозь поднятый на уровень глаз почти прозрачный ломтик и не громко изрек:
— Видно, как повар обжухивает!
Его поддержали:
— Навар гребет!
— В шалгун к начальнице!
— Распиндяй!
— Поладили падлы!
— Он ей, она ему!
В приглушенных замечаниях сквозили обида и страх.
Словно услышав ребячьи реплики, из кухни выкатил малиновощекий, огромный брюхан. Потное бритое темя его поблескивало под съехавшим набекрень тюрбаном, а из-под замусоленного передника проглядывала сползшая до колен, расстегнутая мотня. Повар невозмутимо обогнул столы и, не взглянув на нас, как будто столовая была пуста, скрылся в зале.
Перестук ложек затих. Блаженные мгновения поглощения скудного ужина истекли.
Секунда за секундой, каплями воды из заржавленного крана, просачивался сквозь мой утомленный мозг первый вечер в переполненной группе.
Рдеющий волосок лампочки, прикрепленной к стене над дверью, поглотил сизые сумерки. Как заморенные мыши в заткнутой норе копошилась, попискивала живая масса ребят, предоставленных самим себе. Их лица, видимо, давно не озарялись радостью и смехом, глаза не лучились живым, теплым светом.
Охаянный и униженный, устроился я на подраненном колченогом стуле. От избытка впечатлений, незнакомого окружения, новых звуков и запахов голова шла кругом. Одолевала сонливость, но я крепился и украдкой всматривался в диковинный мирок, казавшийся значительным и сплоченным неизвестным мне прошлым. Чужой, я здесь совсем чужой, — подумалось тоскливо.
У окна мальчишки бойко резались в фантики. Прерывистый гул их голосов вплетался в ровный гуд печной трубы.
За приоткрытой дверцей топки опадало пламя, бурые головешки покрывались черным налетом. Горбатый расшуровал, раздолбал их кочергой, высекая снопы искр, потом разгреб жар и в дотлевающие угли и горячую золу побросал и зарыл картошку.
Рядом склонился над пухлой книгой рыжеватый мальчишка с оттопыренными ушами по фамилии Царев. Он чуть старше и вроде бы не опасен. С ним изредка заговаривали ребята, обращаясь по кличке Царь.
В уши назойливо лезло повторяемое на разные лады имя Никола, и вскоре я догадался, что всю троицу кличут Николами: Никола Большой, Никола Педя и Никола Горбатый. Была еще пара Никол помладше. Сплошные Николы — по-свойски и просто. Мне бы такое имя, да и фамилия моя не на ОВ и дребезжит хуже оскорбительных и унизительных кличек.
— Слыш, Дух! Я в Харькове с урками спознался, — мотнул Никола Большой плоской, слегка раскосой мордой. — Подфартило, лабаз огребли. Хлеб, бацило, консервы, — невпроворот! Нарубались — не шелохнуться, гадом буду! Неделю гужевались. Покемарим, и снова штефать. Да наследили, попухли. Замели нас менты в кожанах, с пушками. Повязали и в воронок! Жратвы осталось — уйма!
Речь Николы обросла матом, походила на лягушачье кваканье.
Дух приоткрыл рот, растерянно, с немым восторгом постигая сказочные прелести своей недавней вольной жизни.
— А потом? — с нетерпением спросил он.
— Упекли баланду с заварухою хлебать. — И, завершая ритуальные откровения ритуальной же угрозой, Никола устрашающе бросил группе: — Слягавит кто, из земли выну! Раздавлю, как мокрицу!
Пока Никола распинался, мне припомнилась мамина давняя знакомая, которая опухла после блокадной голодовки и так и не поправилась, оставшись серокожей, рыхлой. Пожалуй, Никола выглядел еще хуже. Его бугристое лицо отдавало нездоровой желтизной, набрякшие подглазья ползли к вискам, в уголках мутных глаз пузырился гной.
Окружающая троицу ватага внимала Николиному рассказу с нескрываемым восхищением.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».
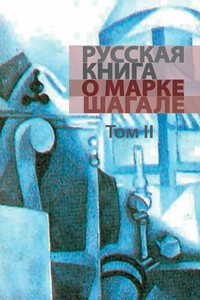
Это издание подводит итог многолетних разысканий о Марке Шагале с целью собрать весь известный материал (печатный, архивный, иллюстративный), относящийся к российским годам жизни художника и его связям с Россией. Книга не только обобщает большой объем предшествующих исследований и публикаций, но и вводит в научный оборот значительный корпус новых документов, позволяющих прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской биографии. Таковы, к примеру, сведения о родословии и семье художника, свод документов о его деятельности на посту комиссара по делам искусств в революционном Витебске, дипломатическая переписка по поводу его визита в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере его обширная переписка с русскоязычными корреспондентами.
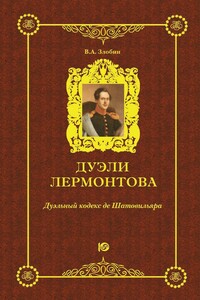
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
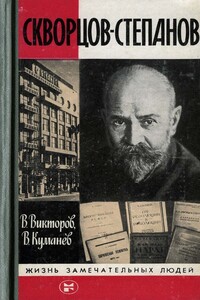
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).