Я твой бессменный арестант - [52]
— Он кровь сосет, — сказала она громко. — Молоко исчезло.
Мама теперь часто разговаривала вслух неизвестно с кем. Поначалу я недоумевал, но постепенно пришел к мысли, что обращается она ко мне, — я же старший.
Мама продолжала задумчиво:
— Пожалуй, буфет мы тоже спалим. Выживем — разочтемся. А с мертвых и взятки гладки.
Простой смысл ее слов был понятен. Свою немудрящую мебель мы давно сожгли, а старинный, массивный буфет красного дерева с множеством шкафчиков, полочек, с резными дверцами и узорчатым верхом громоздился за стеной в пустующей комнате маминого брата. Дядя воевал, а его жена с детьми спасалась в эвакуации.
Мама порывисто поднялась и уложила брата рядом со мной, у стены. Спустя пару минут она притащила один из ящиков буфета и принялась чинить над ним безжалостную расправу, раздирая, разламывая его на куски топором, руками, ногами.
— Околеваем, буфеты бережем!
Я обеспокоенно следил за ее безудержными, резкими движениями и понимал, что ее взбудоражила злосчастная фугаска, едва не угодившая в наш дом. Мама согнулась в три погибели и набила щепой топку маленькой чугунной печки-буржуйки, стоявшей посередине комнаты. Труба буржуйки, надломившись угловатым коленом, уходила в форточку.
Загудел, забился огонь.
Мама тяжело дышала, а я смотрел на ее уверенную расправу с остатками ящика, дожидаясь той заветной минуты, когда что-нибудь съедобное можно будет положить в рот.
Отпотевая, тускнели верхние стекла окна. Чугунные бока буржуйки раскалились до багрового свечения. В нос ударило запахом раскаленного металла. Обращенный к огню край матраса разогрелся, не притронуться. Захотелось высвободить руки и присесть.
Затея с буфетом мне понравилась. Может быть найдется и что-нибудь поесть. Только сегодня, один разок, завтра мы потерпим. В пустом желудке тлел уголек, привычно, болезненно, и я размышлял о булочках, плетеных жаворонках с изюминкой на кончике носа. Их покупали еще весной, и я ссорился с сестренкой из-за сладких изюминок, стараясь выклевать их первым. Мама пичкала нас булкой с чаем, мы отказывались, оставляли недоеденные куски. Плетеный жаворонок назойливо парил перед затуманенным взором, и мечталось о довоенном времени, и совсем казалось невероятным, что сытые дни наступят вновь.
— Мама, — вырвалось у меня. — Какие мы были глупые, хлебушек не ели. Он же такой вкусный!
— Не понимали. Сейчас дошло, да поздно… Хорошо, хоть комнатка наша маленькая. Чуть больше, замерзли бы все давно.
Мама снова скрылась за дверью, но сразу же вернулась, возбужденная, сияющая.
— Смотри, что нашла! — воскликнула она, бережно, обеими руками держа банку с вареньем. — Забилась под буфет, мы и знать не знаем!
Широко открыла обрадованные глазенки сестра. Брат выпростал ручонку, протянул ее маме и залепетал припухлыми, слегка вывернутыми губками:
— Ам, ам! Ам, ам!
Голосок у него был тонким и слабым, не то что до войны, всего несколько месяцев назад.
Обжигаясь, мы прихлебывали дымящийся, подслащенный вареньем кипяток, вытягивали со дна ошметки раздавленных ягод. Живительное тепло потекло внутрь, расползлось по всему телу. Желудок раздулся до боли, но хотелось тянуть еще и еще.
Эта нежданная банка варенья и блеснула в памяти далеким одиноким видением, постепенно обрастая плотью подробностей.
Первым напился и уснул брат.
— Он умный, все понимает, — сказал я маме. — Хнычет, пока ты дома. Без тебя молчит.
Позднее, когда комната прогрелась, и по обоям поползли жидкие ручейки растаявшей изморози, мама купала нас в оцинкованной ванночке. Без усилий переносила с кровати и обратно, сокрушенно причитая:
— Какие ж вы стали легкие, невесомые? Что дальше-то будет? Что будет?
Еще позже простирывала нашу одежонку в оставшейся после купания теплой мыльной воде.
— Старики говорят, — рассуждала она, — в войнах не столько от снарядов и голода гибнут, сколько от грязи, вшей, тифа, болезней. Не завшиветь бы!
Вконец разомлевший, блаженствовал я в свежей, приятно ласкающей тело рубашонке и посматривал на хлопочущую мать. Она перекрыла вьюшкой трубу, укутала одеялом наши чистые, высунутые наружу лапки. Сновала по комнате, наводила порядок, устало откидывая со лба непокорную, иссиня черную прядь. Я окунался в сон.
Блокадная голодовка и стужа ополчились против всего живого. Но ясность воспоминаний о тех днях теряется. Лишь отдельные эпизоды всплывают в едва различимой дали.
Брат и сестра все реже подавали голоса. Плотно упеленутые, они беззвучно лежали у меня под боком, и не всегда было понятно, спят они или пробудились, живы или уже нет? В короткие периоды бодрствования мой взгляд натыкался на окно, и искорка интереса удерживала меня от забытья. Там, в гаснувших сумерках, огромный аэростат зависал над крышей, а ночами лучи прожекторов неземным светом вспарывали темное небо, пошаривая взад-вперед среди вспышек и всполохов ракет и разрывов, скрещивались и пропадали. Прямоугольник окна погружался во мрак.
С каждым пробуждением телесная оболочка таяла, усыхала, почти не принадлежала мне. Только мерзли ноги, да впившаяся в желудок злая змейка щипала и жалила непрестанно. Если бы не ее болезненные укусы, можно было считать себя бесплотным. Но укусы будили, тревожили, требовали.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
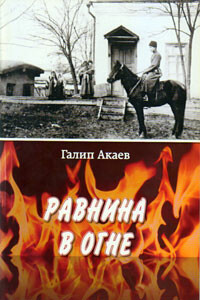
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.