Я твой бессменный арестант - [51]
— Не все ли им равно, сидеть нам в группе или заниматъся в классе?
— Кому не все равно?
— Ну, не знаю.
Царь вцепился хрупкой ручонкой в прут койки и с трудом повернулся на бок.
— Всем на нас наплевать! Дойдем с голодухи, никто и не вспомнит!
— Запхали в эту дыру, как арестантов.
— Мы и есть арестанты, только маленькие.
— Те хоть знают свой срок.
Резко хлопнула дверь в приемной. Последний раз я взглянул на Царя. Он лежал на боку оживленный, головастый; мягкое сияние его широко открытых глаз вызывало доверчивое искушение говорить и говорить без конца, откровенно излить ему все, что наболело на душе.
— Прости, — вырвалось у меня и, не дожидаясь понуканий, я деранул мимо опешившей от неожиданности медсестры.
В группе тревожные раздумья охватили меня. Слово за словом вспоминался наш разговор, занозивший душу искренностью. Все во мне вздыбилось прозреванием. Я признался самому себе в том, в чем раньше боялся: оказывается можно и не верить блатным канонам. Старые, понятные суждения о добре и зле не утратили своего смысла. Сознание проснулось: плохое снова стало плохим, чуждое — чуждым. Блеснувшая искорка ясно высветила истинную ценность блатного мирка, а несколько минут общения в изоляторе сблизили нас больше, чем месяцы совместной маяты в группе и спальне.
На другой день Царя увезли в Ленинград в больницу. Медсестра вскоре уволилась, а взрослые и воспитанники быстро забыли о темной истории его болезни. Только я еще долго горевал о нем.
Отторжение Царя не прошло бесследно: я как будто слегка повредился умом. Прежде наплывавший временами страх стал теперь почти непрерывным, укоренившись легко возбудимым комочком плоти по соседству с сердцем. Стоило кому-то из вожаков задержать на мне взгляд, неожиданно окликнуть или задеть, как эта плоть начинала бешено трепетать и, казалось, вот-вот сорвется. Этот трепет, передаваясь по всему телу до кончиков пальцев, превратился в привычное пугливое состояние. Возможно во всем виновато было недосыпание. Днем меня постоянно потряхивал озноб, особенно заметный в столовой: то ложка непроизвольно цокнет по зубам, то, приподняв руку, замечу стариковское подрагивание пальцев.
20
Забытье
Разобщенное скопище разновозрастных детей, где правит кулак. Шум, окрики, лай, тычок, плач. Неподвижность бессрочной отсидки. Но статичность противоестественна живому. Не мышцы, так сознание действует. Одиночество и скованность подстегивают его. Выхода из голодного тупика не доискаться. А память услужлива. Чуть колыхнул, дал волю, — пустилась перепахивать пережитое, не остановить.
Проступают живые лица, стены и вещи, знакомые узоры обоев; наплывают казавшиеся навсегда утраченными цвета и запахи. Роятся отзвуки слышанных фраз, обрывки мелькнувших мыслей, вроде бы давно стертых, поглощенных забвением. Из подсознания просачиваются все более мелкие подробности. Как капли дождя собираются в ручейки, так отрывочные пятна воспоминаний сливаются в целостные картины. Тонкие нити ассоциаций вытягивают их в связную последовательность, прокручивают перед мысленным взором. Прошлое встает зримо и четко, как вчерашний день. Начинается его новая жизнь, как жизнь отснятого фильма. И съедается время, отмирают дни пустого созерцания и страха.
Все самое важное понемногу утекает из внешней сферы, сферы общения, внутрь, в меня. И можно попытаться пережить отрадное прошлое заново, заслониться им от настоящего. Прошлого не отнять, как пайку хлеба.
Отблеск огня полыхнул в окне. Взрыв разодрал тишину, ударил по ушам. Стены скакнули и прерывисто задергались, смиряя жуткую свистопляску. Фугаска! Конец! Остановилось дыхание, замерли мысли … Дрожание гасло, а мы вбирали в себя малейшие шорохи, со страхом ожидая, рухнет дом или нет? С шуршанием и звоном с верхних этажей сыпались полопавшиеся стекла. Вперебой галдели зенитки, но новых разрывов слышно не было. Пальба зениток отдалялась, и вскоре сирены провопили отбой. Пронесло. Жизнь продолжалась.
Наша крохотная, выгороженная из кухни и смахивающая скорее на чулан комнатенка вновь ожила.
— Отбомбили, — тихо сказала мама. — В дом напротив попали. Занялся, горит!
Мама сидела у нас на кровати и кормила грудью брата. Я ощущал тепло маминого бока и вжимался в него. К другому боку льнула сестра. Поделили мы и мамины косы. Всю бомбежку я комкал и теребил мягкий завиток хвостика доставшейся мне косы.
— Об одном молю: накроет, так всех сразу и насмерть!
Неспокойно елозил и жадно причмокивал губами братишка. Мы скучились настолько тесно, что как бы составляли одно живое существо. В бомбоубежище мы не спускались. Маме было не совладать с тремя неподвижными детьми, а ходить мы разучились. Ноги, истонченные, обтянутые синей кожицей кости, не держали тела. Мы лежали, покрытые одеялом и всем тряпьем, что нашлось в комнате. Под такой тяжестью шевелиться трудно, но нос все-таки слегка зяб, и я отогревал его в кулачке. И с мерзнущим носом, и с давящим грузом тряпья я давно свыкся.
Сирый свет зимнего дня дымился за неровной сеткой наклеенных на стекла бумажных полосок. За ними мельтешили редкие снежинки.
Мама отстранила брата и приподняла на ладони маленькую, иссохшую грудь.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
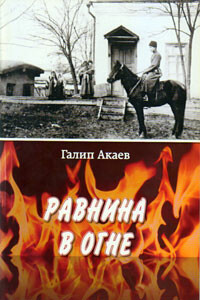
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.