Я твой бессменный арестант - [54]
В проходе показалась мама. Она сгребла меня в охапку и заспешила к выходу. Капельки пота прозрачным бисером высыпали на ее лбу, учащенное дыхание с шумом вырывалось из груди, огромные глаза излучали всезатопляющую радость.
Шофер привстал с сиденья и странно посмотрел на нас:
— Помочь?
— Последний, сама донесу.
— А они … живые?
— Теплые … кажется. — Заметив мои открытые глаза, мама добавила: — Глянь, этот не спит! Теперь выходим!
— Дай-то Бог, — с сомнением покачал головой шофер.
Мама соскочила с подножки, почти упала на снег. Автобус покатил, набирая скорость, как видно шофер поджидал только нас, а мама спохватилась и сокрушенно запричитала вдогонку:
— Ой, одеяло-то там осталось! Заморочил голову чертов ворон!
Огорчение на миг стерло отсвет недавней радости, но явь спасения вновь зажгла возбуждением ее глаза. Это возбуждение передалось мне. Впервые за много дней я упорно сопротивлялся наползающему забытью, удерживая себя на гребне живой волны.
Зал не зал, сарай не сарай — просторное полутемное помещение заполнила молчаливая толпа неуклюжих, замотанных до глаз в темное тряпье людей. Одни полусидели на полу, припав к жиденьким кучкам пожиток, другие лежали вповалку, вперемежку с чемоданами и узлами, такие же безмолвные и неподвижные. Не лица — чернь земли, не глаза — дотлевающий пепел.
Нетвердо шагая через людей и разбросанные манатки, мама пробралась к двум продолговатым сверткам: брату и сестре. Они лежали рядом, тихо и покойно.
Пробуждение прервалось. Какой-то отрезок времени поглотила знакомая тьма блокадной прострации. Потом воспоминания поплыли ровно, события последовательно сменяли друг друга.
Двухъярусные деревянные настилы расслаивали теплушку на четыре жилые секции: две справа от входа и две слева. На настилах плотными рядами, бок о бок, разместили блокадников. Лежали не раздеваясь, в пальто и ватниках, полушубках и платках, а поверх — одеяла. От плиты, стоящей в широком проходе меж нар, волны благодатного тепла ползли по теплушке, лизали промерзшие, заиндевелые стенки. Потолок над плитой слезился сырой изморозью. Четыре оконца в углах под крышей были наглухо забиты фанерой. Белизна дня сочилась сквозь окаймлявшие двери щели. Когда двери сдвигали, ослепительный сноп света бил в лицо, морозный воздух наполнял грудь пьянящей, сладостной радостью.
Первые дни пути. Ошеломляющий паек: судки с наваристым бульоном, шмат сала невиданно огромных размеров, головки колотого сахара. И хлеб! Много хлеба. Большая Земля с предельной щедростью встречала выходцев с того света.
Вагон молчал, хотя погрузили много маленьких, стылых полутрупиков, иногда, от запаха пищи, раскрывавших глаза. Вот она грань жизни! Тела не шелохнутся. На обтянутых ржавой кожей личиках мумий черны надрезы ртов с черными пеньками выкрошившихся зубов. Глубоко запали виски костистых черепов.
Казалось, пришло избавление. Можно расслабиться, не думать о близком конце, не вглядываться с ужасом в леденящие кровь, провалившиеся глазницы детишек. Видимо, многие и расслабились. А смерть, словно опомнившись, бросилась рвать свою долю добычи, по праву причитавшуюся ей целиком.
Как ни изводил нас блокадный голод, как ни мерзли мы в ледяных квартирах, заразные болезни обходили нас стороной. Организм экономил силы в противоборстве с истощением, выставлял заслоны инфекциям, отказывая им в минимуме энергии. И вот съежившиеся желудки, чего только не переваривавшие за страшное полугодие, не справились с желанным насыщением. Кровавый понос принялся выкашивать беззащитных, изможденных беженцев. Эшелон и вообще-то чаще стоял, чем двигался, а в эти первые дни его специально останавливали, где придется. Согбенные, почти на четвереньках, пошатываясь и хватаясь за стойки нар, мужчины и женщины спешно вываливались из теплушек, срывали с себя штаны и вперемежку присаживались прямо у вагонов.
Вопросительно погудев: не погодить ли еще? — паровоз легонько трогал, а в чистом поле на девственно белом саване снега оставалось огромное, вытянутое вдоль путей ржаво-желтое мозаичное панно.
Не только кровавыми пятнами был устлан путь нашего исхода. На станциях, полустанках и разъездах, пока заиндевелый состав заморенных теплушек с жидкими дымками над крышами выжидал несколько часов или дней в тупиках, санитары на одеялах и пальтишках выволакивали трупы блокадников. Смерть мела без разбора: и тех, кто сохранил крупицы сил, и вконец истощенных, сгорбленных дистрофиков, чудом дотащившихся до эвакопункта в Ленинграде. Муссировался слушок о диверсантах и предателях, злонамеренно отравивших весь эшелон. Удовлетворенно толковали о бдительности охраны: изменников сцапали и шлепнули на месте.
Мама да две три ее подруги, обремененные выводками полумертвых детей, держались до последнего вздоха, как запаленные лошади-трудяги в оглоблях. Их вело внятное чувство потаенной опасности: все страшное и мучительное не кончается сразу, как в сказке. Нужно утвердиться, обрести устойчивость естественного уклада бытия, от которого давно отвыкли. Нужно работать и работать, бегать, ползать, подавать, стирать, приносить и уносить, даже если сил уже совсем нет. Нужно ощущать, как свое собственное, состояние своих детей; знать, когда доверять этому ощущению, а когда разуму. Не недодать, не передать. Делать все возможное и невозможное, не щадить себя до последней кровиночки.
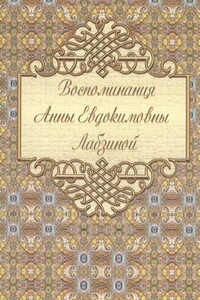
Анна Евдокимовна Лабзина - дочь надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева, во втором браке замужем за А.Ф.Лабзиным. основателем масонской ложи и вице-президентом Академии художеств. В своих воспоминаниях она откровенно и бесхитростно описывает картину деревенского быта небогатой средней дворянской семьи, обрисовывает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений. В книге приведены также выдержки из дневника А.Е.Лабзиной 1818 года. С бытовой точки зрения ее воспоминания ценны как памятник давно минувшей эпохи, как материал для истории русской культуры середины XVIII века.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.