«…Я молчал 20 лет, но это отразилось на мне скорее благоприятно»: Письма Д.И. Кленовского В.Ф. Маркову (1952-1962) - [3]
Самое сложное заключается в том, что с антропософией во всей ее многогранности весьма затруднительно как следует познакомиться. Для этого нужны возможности, терпение и время. Для начала нужно почувствовать к ней какое-то расположение, внутренне ее принять, в крайнем случае — не оттолкнуть, тогда дело пойдет легче. Рудольф Штейнер написал множество книг и прочел огромное количество докладов, которые были тоже постепенно все изданы. Есть и другие авторы-антропософы, напр<имер> Emil Bock[20]. Но очень трудно посоветовать, как хоть частично со всем этим познакомиться. Дело в том, что от написания популярного «введения в антропософию» Р. Штейнер всегда, по причинам, о которых говорить здесь было бы слишком долго, уклонялся и такового не существует. Нужно вроде того, что прямо кинуться в море, не умея плавать, не зная, выплывешь ли… Я затрудняюсь назвать Вам книги, с которых можно было бы начать ознакомление с антропософией. Наиболее популярной, но скорее теософской, книгой являются «Les grands inities» Ed
Я не написал бы Вам обо всем этом, если бы не прочел в Вашем сборнике стихов приведенных здесь мною строк, а в Вашем письме — слов о внутреннем касании Бога и шестом чувстве. Если я ошибся, Вы, надеюсь, не будете на меня в претензии, ибо действую я от чистого сердца.
Что Вы сейчас творчески (стихи) безмолвствуете[25] — меня не пугает. Помолчать бывает даже полезно… И никакое молчание не проходит бесследно, это всегда период накопления внутренних сил. Моя первая (детская еще) книга стихов вышла в 1917[26], вторая была принята (но не смогла быть издана) изд<ательст>вом «Петрополис» в 1923[27], а после этого я молчал 20 лет, но это отразилось на мне скорее благоприятно. Так, думается мне, и Ваше молчание Вас тревожить не должно, тем более что Вы молоды.
Очень порадовало меня Ваше упоминание о Вашей счастливой семейной жизни. Порадовало потому, что я и моя жена — тоже исключительные друзья. В сочельник мы отпраздновали (вдвоем у елочки) нашу серебряную свадьбу, чего в дальнейшем от души желаем и Вам с супругой.
Читаете ли вы «Рус<скую> мысль»? Заметили ли Вы там высказывания об эмигрантской поэзии некоего К. Померанцева, который подвизается, кроме того, там же и в «Возрождении» как поэт, романист, философ, историк и т. д., и т. д. Нечто совершенно умопомрачительное по апломбу и безответственности! Меня от его писаний в дрожь бросает! И не находится никого, кто бы поставил его на место… Я, к сожалению, для сего недостаточно зубаст. Жму Вашу руку.
Д. Кленовский
4
8 марта <19>54
Дорогой Владимир Федорович!
Получил В<аше> письмо. Вы правы! И ne faut pas brusquer les choses[28], как говорят французы. Если Вы не испытываете влечения к антропософии, не доверяете ей — не нужно себя неволить. Все придет в свое время, само «прорастет», притом (с точки зрения антропософа) если не в этом, то в… следующем воплощении!! Но «бояться» антропософии, пожалуй, тоже не следует. Не обязательно стать ее рабом! Я лично (таков был и М. Волошин) беру от нее не все, а то, что находит отклик, согласие в моей душе. Вы очень верно подметили подозрительную способность антропософов находить ответы на все вопросы. И «публика» на антропософских собраниях, как Вы тоже правильно заметили, частично «юмористическая»… С другой стороны, иные антропософы грешат тем «бездейственным самосовершенствованием», о котором Вы тоже упоминаете. Мне все это, однако, не мешает. Дело в том, что многое, очень многое в антропософском миросозерцании (ведь это не религия, не секта, а именно миросозерцание) представляется мне наиболее вероятным, правдоподобным, а главное — справедливым объяснением волнующих нас вопросов. В частности, о бытии животных, растений (и минералов), острое ощущение которого Вы у себя признаете, антропософия рассказывает замечательные вещи. Я не хочу Вас агитировать, но какое-то предрасположение к антропософии у Вас несомненно есть. Знаю по себе: знакомясь впервые (это было в 1916 г.) с антропософией, я странным образом ощущал некоторые основные ее тезисы как нечто давно уже мне известное и только основательно позабытое. Это ощущают многие. Невольно думается: откуда такое ощущение? Налицо, по-видимому, именно какое-то предрасположение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
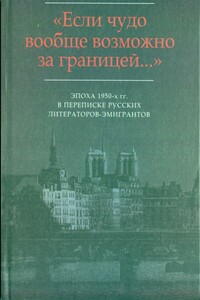
Оба участника публикуемой переписки — люди небезызвестные. Журналист, мемуарист и общественный деятель Марк Вениаминович Вишняк (1883–1976) наибольшую известность приобрел как один из соредакторов знаменитых «Современных записок» (Париж, 1920–1940). Критик, литературовед и поэт Владимир Федорович Марков (1920–2013) был моложе на 37 лет и принадлежал к другому поколению во всех смыслах этого слова и даже к другой волне эмиграции.При всей небезызвестности трудно было бы найти более разных людей. К моменту начала переписки Марков вдвое моложе Вишняка, первому — 34 года, а второму — за 70.
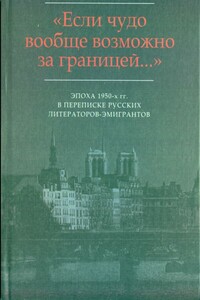
Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.
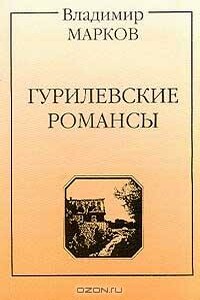
Георгий Иванов назвал поэму «Гурилевские романсы» «реальной и блестящей удачей» ее автора. Автор, Владимир Федорович Марков (р. 1920), выпускник Ленинградского университета, в 1941 г. ушел добровольцем на фронт, был ранен, оказался в плену. До 1949 г. жил в Германии, затем в США. В 1957-1990 гг. состоял профессором русской литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в котором он живет до сих пор.Марков счастливо сочетает в себе одновременно дар поэта и дар исследователя поэзии. Наибольшую известность получили его работы по истории русского футуризма.
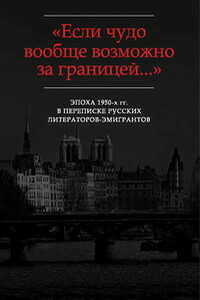
1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли».
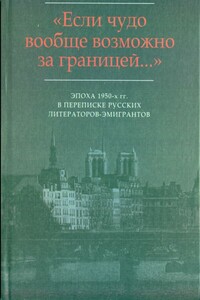
Эммануил Райс (1909–1981) — литературовед, литературный критик, поэт, переводчик и эссеист русской эмиграции в Париже. Доктор философии (1972). С 1962 г. Райс преподавал, выступал с лекциями по истории культуры, работал в Национальном центре научных исследований. Последние годы жизни преподавал в Нантеровском отделении Парижского университета.С В.Ф. Марковым Райс переписывался на протяжении четверти века. Их переписка, практически целиком литературная, в деталях раскрывающая малоизученный период эмигрантской литературы, — один из любопытнейших документов послевоенной эмиграции, занятное отражение мнений и взглядов тех лет.Из нее более наглядно, чем из печатных критических отзывов, видно, что именно из советской литературы читали и ценили в эмиграции, И это несмотря на то, что у Райса свой собственный взгляд на все процессы.
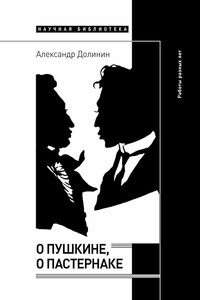
Изучению поэтических миров Александра Пушкина и Бориса Пастернака в разное время посвящали свои силы лучшие отечественные литературоведы. В их ряду видное место занимает Александр Алексеевич Долинин, известный филолог, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор многочисленных трудов по русской, английской и американской словесности. В этот сборник вошли его работы о двух великих поэтах, объединенные общими исследовательскими установками. В каждой из статей автор пытается разгадать определенную загадку, лежащую в поле поэтики или истории литературы, разрешить кажущиеся противоречия и неясные аллюзии в тексте, установить его контексты и подтексты.

В 1833 г. император Николай I подписал указ об утверждении песни «Боже, Царя храни» в качестве национального российского гимна. Уже почти сто лет в России нет царя, а мелодия Львова звучит разве что в фильмах, посвященных нашему прошлому, да при исполнении увертюры П.И.Чайковского «1812 год». Однако же призрак бродит по России, призрак монархизма. И год от года он из бесплотного, бестелесного становится все более осязаемым, зримым. Известный российский писатель-фантаст Роман Злотников одним из первых уловил эти витающие в воздухе флюиды и посвятил свою новую книгу проблеме восстановления монархии в России.

Уголовно-правовая наука неразрывно связана с художественной литературой. Как и искусство слова, она стремится постичь философию жизни, природу человека, мотивацию его поступков. Люди, взаимодействуя, вступают в разные отношения — родственные, служебные, дружеские, соседские… Они ищут правосудия или власти, помогают или мстят, вредят или поддерживают, жаждут защиты прав или возмездия. Всматриваясь в сюжеты жизни, мастер слова старается изобразить преступника и его деяние психологически точно. Его пером создается картина преступления, выявляются мотивы действия людей в тех или иных ситуациях, зачастую не знакомых юристу в реальной жизни, но тем не менее правдоподобных и вполне возможных. Писательская оценка характеров и отношений важна для постижения нравов общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.