Вьюга - [2]
Да, стало как-то легче, когда она вздохнула в последний раз. Бог с нею. Что, если бы одинокой осталась она? А это было бы скоро. Предчувствовала, бедная голубка! материнских глаз не обманешь, и мужества было меньше… "Как ни жить, но жить вместе…" Отмучилась.
— Николай Михайлович, ты еще свою лампочку не погасишь? — послышалось из дверей хозяйской половины избы, и на пороге явилась хозяйка.
— Рано, — возразил, не оглядываясь, жилец.
Другая роскошь — деревянные часы в эту минуту, шипя, пробили шесть.
— И то. А мой старик спать залег на печь. Ты станешь свою книжку читать, а я приду пряжу сучить. Можно?
— Милости просим, — отвечал он.
Она ждала ответа; это повторялось всякий вечер.
— У тебя светлее, — договаривала она, идя к себе, — и страха нет, нежели когда с лучиной.
Скоро зажужжало ее веретено. Часы обрадовались, что на них обратили внимание, и защелкали громче. Эти звуки не убаюкивали, не наскучали; они тянулись, как что-то неизбежное, непреложное. Мысль застыла. Одно томящее ожидание — вот-вот сейчас кончится… Что?.. и полнейшее сознательное убеждение, что конца не будет. Даже ничто не шевелилось; разве изредка тень от руки хозяйки.
Вдруг молодой человек сделал резкое движение и ближе наклонился к окну.
— Николай Михайлыч, ты бы, батюшка, лучше отошел; вон, — прямо грудью на холод.
Он не слушал и всматривался. В конце поляны, над оврагом, что-то засветило среди мрака, тускло, красно, будто зарево, поднималось выше, разгоралось жарче. Пожар? Но чему там гореть?
Свет все вырастал; чрез несколько минут он разделился большими туманными кругами, потом рассыпался искрами; они прыгали, как огни на болоте; то отделялись, то скучивались, вдруг собрались тесно вместе и понеслись по дороге, прямо к избе. Послышался топот, визг полозьев, голоса.
— Господи помилуй! что такое? — вскричала, вскакивая, хозяйка.
Жилец выбежал в сени.
У крылечка стояла кибитка, тройкой, светился десяток фонарей, толпились люди, — одни верхами, другие выбирали из кибитки, кого-то высаживали.
— Вотяков! Николай Михайлович! — раздалось звонко.
— Я! Здесь! — отвечал он.
Кто-то бросился ему на шею; он приподнял что-то легкое и внес в избу. К его лицу прижимались холодные нежные щеки, его крепко целовали… Женщина? Девочка? Она бросила шубу на пол. На ней что-то бледно-голубое; на голове красная шаль; она бросила и ее.
— Я - жена Вани. Он тут. Милый, здравствуй, здравствуй. Ты меня никогда не видел. Я — Катя, жена Вани Заборовского. К тебе приехали. Вот и он идет…
— Отрекомендовалась! — весело сказал, входя, молодой господин, закутанный в шубу. — Здравствуй, Вотяков. Не узнаешь? Разумеется, не ждал! Вот ей обязан. Мы — новобрачные, она выдумала…
Вотяков оглядывался, потерянный. Молодая женщина все держалась за его руки.
— Вы? Вздумали ко мне? Но вы меня не знаете…
— Знаю, знаю! — прервала она.-- Ах, не говори мне вы… Все знаю! Ты его друг, у вас все было заодно, вы вместе пропадали… Его бог помиловал, а ты… Где же мама?
— Мама?
— Твоя мама! Я ее ножки поцелую…
— Мамы нет…
— Господи!
Она опять бросилась ему на шею.
— Нет? Умерла? Ты один? Давно? Ваня, слышишь? Один, с весны, давно…
— И не написал! — сказал Заборовский.
— Кому?
— Я столько раз давал адресы…
— Я не получал.
— Тебя переводили?
— Я здесь безвыездно пять лет.
— Так это обыкновенная история! — возразил Заборовский, нетерпеливо смеясь. — Ну, этот вопрос исчерпан: свиделись. Возобновим знакомство. Мы, друг мой, совершаем свадебное путешествие. Оригинально, не правда ли, по сугробам? Все-таки летим сравнительно на юг; не на золотое солнце, а в золотой Питер, к людям, на свет божий. Ведь она ни о чем понятия не имеет! Ведь всего пятнадцать лет, — совсем девочка. Мы получили une dispense и три недели тому назад соединились… Так ли, три недели, Catherine?
— Да, — выговорила она.
— Пятнадцать лет, но хитрость — совсем зрелая, женская! Вообрази, берет с меня, уж не просто — слово, а целую клятву, что я исполню ее первое желание. Делать нечего; сам знаешь: женщина если что затевает… и, наконец, нельзя же! Добиваюсь, что такое? — молчит. Третьего дня приехали в Т*, она объявляет: "Вези меня к Вотякову". Полсотни верст, но клятва!!
Она все смотрела на Вотякова. Он тоже взглянул пристальнее в ее беленькое кругленькое личико и огромные черные глаза с закрученными ресницами. Ее волосы, обрезанные до плеч, влажные от мороза, уж высохли и кудрявились.
— Рассказывай о себе, — сказала она тихо.
— Мне рассказывать нечего, — возразил он, — вот все тут.
— Чего же ты ждала больше? — спросил муж.
— Все! — повторила она, — только?
Она зажала лицо обеими ручками; Вотяков отвел их и поцеловал.
— Полно, голубушка…
— Я не знал, Catherine, какая ты нервная, — заметил Заборовский. — Спроси его самого; ему, — натурально, сравнительно! — еще не так дурно, как бывает. Не особенно глухо: город хоть уездный, всего пятьдесят верст; может быть общество… И здесь — комфорт, чистое помещение. Как тебе удалось такое найти?
— Пристройку сделали.
— Ты сам? на свой счет. Нашлись средства? — договорил Заборовский с грустной улыбкой.
— Мать привезла с собою, что собрала, денег, — нетерпеливо отвечал Вотяков.
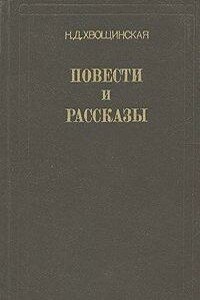
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
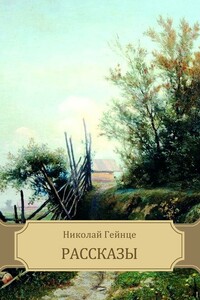
Николай Эдуардович Гейнце, автор целой библиотеки исторической остросюжетной беллетристики, был известен всей читающей дореволюционной России. В своих романах, обращены они к личностям государей или «простых смертных», попавших в их силовое поле, он ищет тот государственный стержень, который позволяет человеку оставаться Человеком в любых обстоятельствах. СОДЕРЖАНИЕ: • Умирающий варнак. • Братоубийца. • Из-за корысти. • На вскрытии. • Сибирский «держиморда». • В ночь под Рождество. • На елке у природы. • Воистину воскресе! • Прощеное воскресенье. • Чернильная клякса. • Сестра напрокат. • Два мундштука. • Повысили. • Жену купил. • Цепочка. • Брак не по сердцу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
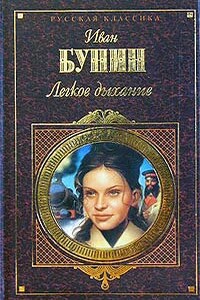
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.