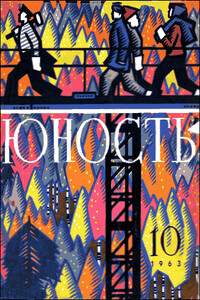Второе апреля - [55]
— Просто Иохим Рембрандт ван Рейн! Винцент Ван-Гог и Василий Иванович Суриков.
Художник Тютькин самодовольно засопел и спросил небрежно:
— Кроме шуток?
— Кроме, — сказала Машка. — Абсолютно кроме. Он зверски похож!
И потом каждый трудящийся, входя в шестой «Б», обязательно говорил что-нибудь вот этакое:
— Гений!
— Но Коля! Прямо как живой!
— А ухо-то, ухо! Ну, точно.
— Что там ухо? Все точно!
А хорошенькая кисочка Машенька (учтите, это не Машка, а Машенька, совсем другая, совершенно другая девочка)... Так вот, Машенька спросила:
— А артиста Рыбникова срисовать можешь?
— Почему срисо? — высокомерно сказал Тютькин. — Не срисо, а на-ри-со... — и торжественно закончил, — вать.
Посыпались заказы. Трудящиеся хотели увидеть дружеский шарж на Адочку (в смысле на Ариадну Николаевну), карикатуру на завуча, портрет Гагарина, атомную лодку и еще там всякое разное. Тютькин томно кланялся и ничего определенного не обещал.
— А мне голубя, — сказала Машка.
— Мира? — спросил Тютькин, впервые проявив интерес.
— Нет, просто. Сизаря.
— А ты гоняешь? — почтительно удивился Тютькин, который, конечно, знал, что Машка свой парень. Но чтоб до такой степени!
Но так он и не выяснил (и мы тоже не узнаем), гоняет или не гоняет. Потому что в ту самую минуту появился Коля. И все завопили:
— Коля! Коля! Смотри, Коля, как тебя здорово Тютькин нарисовал!
Коля посмотрел на курносую, ушастую, лупоглазую рожу, намалеванную на доске.
— Почему это меня? — спросил он, внимательно оглядев честную компанию.
— А кого же?! — закричали все. — Ты только посмотри.
— Ну, Тютькин, кого ты нарисовал? — негромко спросил Коля и взял художника за шкирку (а я забыл сказать, что этот квадратный Коля со своей круглой башкой был самый сильный человек всех шестых классов).
— Не тебя-я-я! — завопил Тютькин.
— Как же не тебя?! — закричали любители справедливости. — Смотри, вот ухи. И бровь — одна вверх, другая прямо!
— Значит, меня? — сердечно спросил Коля и поднял бровь так, что все ахнули: до чего похоже. — Меня, значит? — и сел верхом на Тютькина.
— Не тебя-я-я!
— А кого же, если не Колю? — настаивали правдолюбцы. — Как не стыдно врать, Тютькин?
Может, Тютькину и стыдно было врать, но на нем же сидел Коля, и это, наверно, сильно мешало...
Вы, пожалуйста, не осуждайте весь шестой «Б», в котором, конечно, много вполне порядочных и благородных людей. Просто рисунок был слишком обидный, и, честно говоря, каждый на месте Коли мог бы обидеться. Конечно, будь на его месте, скажем, Сашка Каменский, он бы парировал выпад художника какой-нибудь блестящей эпиграммой, которая, может быть, кончалась бы как-нибудь убийственно (например: «Эх ты, Тютькин, Тютькин, Тютькин, ты художник, но свинья»).
А председатель совета отряда Кира Пушкина, будь она на месте Коли, она бы, пожалуй, притащила художника на совет отряда и поставила бы такой моральный вопрос, что ему было бы в сто раз тошнее, чем если бы на нег сели два Коли и даже четыре Коли. Но надо учитывать, что Коля не имел ни власти, ни остроумия. И что же му еще оставалось, кроме как сесть на Тютькина? Вот он сел, и сидел, и не знал, как ему быть дальше.
— Не тебя-я... А... а Ваську Трубачева... Из второй школы.
— Вот видите, — с облегчением вздохнул Коля и сразу же честно слез с Тютькина. — Трубачева кого-то...
— Дурак ты, — сказал Сева Первенцев. — Васек Трубачев — это не из какой не из школы. Это книжка такая есть.
Тогда Коля треснул художника по шее, стер рукавом его произведение и написал на доске:
СМЕРТЬ ТЮТЬКИНУ!!!
— А у тебя в самом деле уши преступника, — вызывающе сказала Машка, которая, конечно, не боялась Колю и вообще никого не боялась.
— Ты у меня еще заплачешь — пообещал Коля Тютькину, — четырнадцать раз заплачешь!
(Я затрудняюсь вам объяснить, почему именно четырадцать, а не шестнадцать и не девять, но вот так он сазал.) — А меня нарисуешь — пулей из пионеров вылетишь, — сказал почему-то Сева Первенцев, член совета дружины.
А благородный рыцарь Юра Фонарев пресек:
— Только троньте кто-нибудь Тютькина. Будете знать!
Но после уроков Тютькин на всякий случай все-таки потолкался минут десять в уборной третьего этажа (чужого, шестой «Б» на втором). Добрый Ряша (Вовка Ряшинцев) оставался с ним, развлекая художника отвлеченными разговорами Когда стало ясно, что Коля уже ушел, они покинули укрытие и спустились в раздевалку.
— Ничего, — сказал хилый Ряша, проживший в школе далеко не безбедную жизнь. — Ничего такого особенно страшного. Ты сравнительно мало пострадал, зато как все восхищались, и даже один из десятого класса — я забыл как его зовут, такой здоровенный, в очках — специально приходил спрашивать, который тут у нас художник.
Про парня из десятого добрый Ряша придумал, но, к сожалению, это не утешило Тютькина.
— Нет, — грустно сказал художник. — Ну его! Вообще все это к чертям собачьим.
— Вот ты как! — осуждающе сказал Ряша. — Ты хочешь рисовать как хочешь и еще хочешь, чтобы тебе ничего за это не было. Ишь ты, какой ушлый!
— Я не ушлый, — сказал Тютькин, — и я ничего не хочу.
Ряша просто не знал, как теперь его развеселить, бедного Тютькина. Он рассказал ему страшно смешной анекдот про кошку, которая умела говорить «гав», и обманутые мыши выходили из нор: — думали, что это вовсе собака... А кошка их съедала и говорила: «Видите, как полезно знать иностранные языки».

Илья Зверев (1926–1966) родился в г. Александрии, на Украине. Детство провел в Донбассе, юность — в Сибири. Работал, учился в вечернем институте, был журналистом. В 1948 году выпустил первую книгу путевых очерков.Илья Зверев — автор многих книг («Ничего особенного», «Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева», «Все дни, включая воскресенье…», «Второе апреля», «Трамвайный закон» и др.). Широкому кругу читателей известны его рассказы и повести, опубликованные в журналах «Знамя» и «Юность». По его произведениям сделаны кинофильмы и спектакли («Непридуманная история», «Второе апреля», «Романтика для взрослых»).Писатель исследует широкие пласты жизни нашего общества пятидесятых и первой половины шестидесятых годов.В повестях «Она и он», «Романтика для взрослых», в публицистических очерках рассказывается о людях разных судеб и профессий.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.