Всяко третье размышленье - [42]
Ну, и где же тут твой прославленный и великий роман, Nedwardio mio? Ладно-ладно: нам нетрудно вообразить тебя в твоей вечной, распротак ее, Весенней Поре, показывающим нам дулю в кармане. Однако, так же как стенописец Диего Ривера, сказавший: «Что вижу, то и пишу», твой бывший сотоварищ по музе — быть может, менее склонный к авантюрам, но потому и проживший дольше — пишет то, что стекает с пера его «монблана», а другого ему не дано.
29 октября 2008-го, во вторую годовщину вышеупомянутого торнадирования, М., теперешний его сотоварищ по музе, высказалась так:
— То-то и оно, что не дано. Треть с хвостиком так называемого Второго Листопада — или как ты его обозначил — уже миновала, нет? И со дня твоего рождения целый месяц прошел. Уже и первые заморозки были, и листья пожелтели, и Америка вот-вот выберет первого в ее истории президента-афроамериканца, да поможет ему Зевес. Сдается мне, очередное твое Видение с прописной «В» сильно запаздывает — номер четыре, верно? Или я сбилась со счета?
Если оно состоится, то будет четвертым. Госпожа Т. со счета не сбилась, а вот супруг ее, утративший по прошествии лучших лет его жизни большую часть волос и отнюдь не малую — либидо, — а также общую живость, остроту ума и… он забыл, что еще, — явственным образом теряет и свое, назовем его так, Видионерство. От лобовой контузии, приведшей к «Первому Листопадному» Видению № 1, он давно уж оправился, одни лишь стигматы остались. Видение № 2 более или менее совпало с Весенним Равноденствием, а Видение № 3, каким бы оно ни было, явившееся ему через полных два месяца после Летнего Солнцеворота, вполне могло (кто знает?) оказаться последним.
И почти к изумлению своему: Как бы то ни было, а пропади ты пропадом, Нед Проспер! — вот что пишет он в среду 5 ноября, наутро после исторического избрания Барака Обамы, которое Тодд/Ньюитты и друзья их отпраздновали перед большим телеэкраном, в доме одного из коллег, стоявшем посреди реконструированного стратфордского Бриджтауна. Как получилось, что ты никогда не показывал своему старейшему/лучшему другу твоего растреклятого «Всяко третьего размышленья», не делился с ним так, как он делился с тобой, показывая свой первый роман, главу за главой, черновик за черновиком, как мы делились и показывали друг другу все, черт дери, остальное, начиная с сочиненного нами в пятом классе сомнительного стишка «с-ее-лифчика-кнопки-поотлетали» и кончая нашими подростковыми пиписьками и постподростковыми приключениями? Что было в нем, пропади он пропадом, столь уж особенного, почему ты держал его в таком растреклятом секрете? Может, ты с Первого Шага понял: это никчемный кусок дерьма — и не смог смириться с тем, что дружок твой станет вскоре таким писателем, каким хотел стать ты? Или послушай: может, твой роскошный магнум опус и не существовал никогда на свете! Еще того хлеще, но ведь по Зрелом, мать его, Размышлении так оно, похоже, и есть, а? Великий Американский Роман, начинающийся с бессмертного заклинания/проклятия «Как бы то ни было, а пропади ты пропадом, Нед Проспер!», утраченная дырка от задницы, друг, которого Джордж Ирвинг Ньюитт любил почти до биматьтвоюсексуальности! И нате вам, он-то, на хер, и говорит теперь — а вернее сказать, ты говоришь в этом твоем распроёбаном «Третьем Размышленье», которое по Перезрелом Размышлении может — а какого, в самом-то деле, дьявола — начаться с «ПРЕСКРИПТУМА: ДЖОРДЖ ИРВИНГ НЬЮИТТ ПРОЧИЩАЕТ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО» и продолжаться вот до этого поганого незавершенного, распротак его, «предложения»… Почему ты вдруг взял да и помер, мой старый приятель, и кому ты, в жопу, нужен полвека спустя, кроме — ну, это само собой — все еще отчаянно скребущего перыышком Дж. И. Ньюитта, и Манди, да благословят ее Небеса, надеюсь, поймет меня: Она — это все, что я получил вместо детей и внуков, славы и состояния — да ладно, хрен с ним, с состоянием, по крайней мере, вместо неразрушенного дома и молодой летней поры или хотя бы средне-осенней силы, а не почти-зимования под конец ноября, пошли они все подальше: у нас, Тодд/Ньюиттов//Ньюитт/Тоддов, есть мы плюс наше раздельно-совместное бумагомарательство и (арендованная) крыша над нашими седо — или редковолосыми головами, мы остаемся еще «прямоходящими и принимающими пищу», большое, мать твою, спасибо, Зевес или кто там еще, плюс пишущими — и, как знать, может быть даже заканчивающими! — богопротивное «Всяко третье размышленье. Роман в пяти временах года» Неда Распротак Его Проспера, и вот тебе, получи (не будь я Джорджем): КОНЕЦ!

Классический роман столпа американского постмодернизма, автора, стоявшего, наряду с К. Воннегутом, Дж. Хеллером и Т. Пинчоном, у истоков традиции «черного юмора». Именно за «Химеру» Барт получил самую престижную в США литературную награду – Национальную книжную премию. Этот триптих вариаций на темы классической мифологии – история Дуньязады, сестры Шахразады из «Тысячи и одной ночи», и перелицованные на иронически-игровой лад греческие мифы о Персее и Беллерофонте – разворачивается, по выражению переводчика, «фейерверком каламбуров, ребусов, загадок, аллитераций и аллюзий, милых или рискованных шуток…».
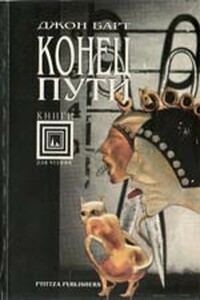
Джон Барт (род. 1930 г.) — современный американский прозаик, лидер направления, получившего в критике название школы «черного юмора», один из самых известных представителей постмодернизма на Западе. Книги Барта отличаются необычным построением сюжета, стилистической виртуозностью, философской глубиной, иронией и пронзительной откровенностью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Фрэнклин Шоу попал в автомобильную аварию и очнулся на больничной койке, не в состоянии вспомнить ни пережитую катастрофу, ни людей вокруг себя, ни детали собственной биографии. Но постепенно память возвращается и все, казалось бы, встает на свои места: он работает в семейной юридической компании, вот его жена, братья, коллеги… Но Фрэнка не покидает ощущение: что — то в его жизни пошло не так. Причем еще до происшествия на дороге. Когда память восстанавливается полностью, он оказывается перед выбором — продолжать жить, как живется, или попробовать все изменить.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.

Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.

Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.

Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.