Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей» - [11]
Только в этой мистической форме осуществляется в сфере красоты единство личного и общего. Связать писателя с конкретной гражданской социальностью нельзя, и слишком поверхностно и хрупко было бы это соединение; но приобщить писателя к миру – это и можно, и должно. Личность глубже связана со вселенной, чем с государством. Связь с общим не предполагает непременно связи с частным; внутренняя связь с большим не предполагает непременно связи с меньшим. Через это меньшее, через головы современников, поверх эмпирического, писатель соединен с глубиною мира, и на него из этой глубины, из этой большой среды, идут влияния, более действенные, чем те, которые направляются от близкой периферии, от среды непосредственной и малой. И художники чувствуют это лучше всех. Припомним стихи Алексея Толстого:
Эта космическая основа искусства, его приобщенность ко вселенской тайне, делает художника выразителем первозданной сущности, которая и подсказывает, и нашептывает ему все то, что он повторяет в своих произведениях. Тайная грамота мира благодаря художнику становится явной. И поэтому, вследствие этого происхождения от самых недр бытия, все великие создания искусства, кроме своего непосредственного смысла, имеют еще и другое, символическое значение. В своих глубинах недоступные даже для своих творцов, они хранят в себе этот естественный символизм, они развертывают бесконечные перспективы и в земную, и в небесную даль. Понять искусство в этой его многосторонности, истолковать хотя бы некоторые из его священных иероглифов, – вот что составляет одну из высоких задач критика.
Во исполнение ее он должен как можно проникновеннее и теснее слиться с тем художественным явлением, которое он изучает; он должен изнутри сродниться с художником, перелить его душу в свою и свою душу в его; он должен, осуществляя имманентное отношение к искусству, не уходить от его произведения, а входить в него все глубже и глубже. Для того чтобы все это совершить, ему надо свою субъективность не подавлять, а, напротив, раскрыть ее свободно и доверчиво к самому себе. В области художественного слова критик приникнет к чужому слову и претворит его в свое. Волна искренних и нестесненных впечатлений донесет его до самой души поэта. Желанная соотносительность творца и критика сделает так, что читатель, над страницами писателя отдавшись самому себе, найдет и его. Вне субъективных впечатлений литература, как и вообще искусство, не существует. А от этих субъективных впечатлений перекинуть настоящий и надежный мост к объективности, к наукообразности, – кто сумеет? Замечательно, что от этого когда-то отказывался даже такой выдающийся историк литературы, как Лансон. Вот что говорит он в предисловии к 1-му тому своей «Истории французской литературы» (русск. перев. М., 1896, с. 6–8): «По какому-то гибельному суеверию, в котором не ответственны ни сама наука, ни ученые, явилось стремление навязать литературе научную форму и ценить в ней только одно положительное знание. Не следует упускать из виду, что история литературы имеет целью характеристику отдельных писателей и что в ее основе лежат индивидуальные впечатления, индивидуальные интуиции. Она изучает не виды или категории, но Корнеля, Расина или Гюго, и для изучения их она пользуется не такими приемами или опытами, которые могли бы быть повторяемы каждым и давали бы всегда неизменные результаты, а применением способностей, различных в каждой отдельной личности и дающих по необходимости относительные и недостоверные результаты. Ни по своей цели, ни по своим средствам литературные сведения не могут быть названы в строгом смысле научными. Не следует упускать из виду, что в литературе, так же как и в искусстве, существуют произведения, способность которых вызывать впечатления бесконечна и неопределенна и относительно которых никто не может утверждать, что он исчерпал все их содержание или нашел для них неизменную формулу. Но это равносильно признанию, что литература не может быть предметом точной науки; это – предмет умственных занятий, вкуса, наслаждения. Можно изучать литературу, но нельзя ее знать; ею можно заниматься, разрабатывать ее и любить».
«Литература не может быть предметом точной науки»; «в основе истории литературы лежат индивидуальные впечатления, индивидуальные интуиции», – если эти истины принять, то необходимо раз навсегда отвергнуть наукообразность и объективность истории литературы. С импрессионизмом нельзя кокетничать – стоит пустить его на порог дома науки, в ее основу, как он уже пойдет все дальше и дальше и всю эту строгую храмину непременно разрушит. Где есть и где неизбежен принципиальный импрессионизм, там не может быть истинной научности.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
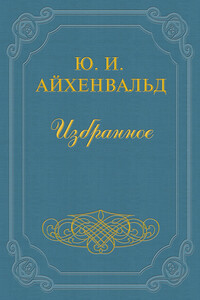
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
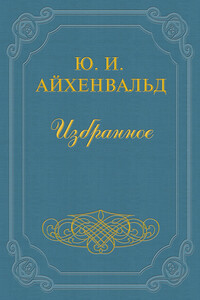
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
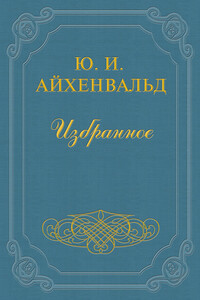
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
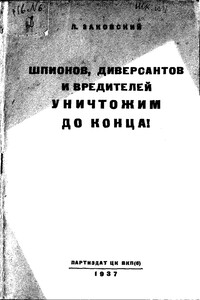
В этой работе мы познакомим читателя с рядом поучительных приемов разведки в прошлом, особенно с современными приемами иностранных разведок и их троцкистско-бухаринской агентуры.Об автореЛеонид Михайлович Заковский (настоящее имя Генрих Эрнестович Штубис, латыш. Henriks Štubis, 1894 — 29 августа 1938) — деятель советских органов госбезопасности, комиссар государственной безопасности 1 ранга.В марте 1938 года был снят с поста начальника Московского управления НКВД и назначен начальником треста Камлесосплав.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев.
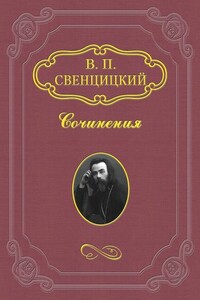
«…Церковный Собор, сделавшийся в наши дни религиозно-нравственною необходимостью, конечно, не может быть долгом какой-нибудь частной группы церковного общества; будучи церковным – он должен быть делом всей Церкви. Каждый сознательный и живой член Церкви должен внести сюда долю своего призвания и своих дарований. Запросы и большие, и малые, как они понимаются самою Церковью, т. е. всеми верующими, взятыми в совокупности, должны быть представлены на Соборе в чистом и неискажённом виде…».

Статья посвящена положению словаков в Австро-Венгерской империи, и расстрелу в октябре 1907 года, жандармами, местных жителей в словацком селении Чернова близ Ружомберока…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.