Встречи - [6]
И вот снова случайная встреча — уже в разгар Отечественной войны. И снова откровенный, доверительный разговор. Симонов здорово умел именно так — откровенно и доверительно — разговаривать с людьми. Я тогда только что вышел из госпиталя, а Симонов оказался ненадолго в Москве — чтобы «отписаться» между двумя фронтовыми командировками.
Слышавший от кого-то о моих, естественно, сменявших друг друга удачах и неудачах на войне, Симонов высказался в том смысле, что, мол, изрядно мне досталось. Я тоже был наслышан о том, как он ходил в боевой поход на подводной лодке, высаживался с североморскими десантниками в тылу противника, хорошо ознакомился с автоматным, пулемётным, миномётным, артиллерийским — не знаю уж, какие бывают ещё — огнём, от какового немало поотлеживался в придорожных кюветах, а то и просто на сырой земле. Поэтому в ответ на его слова сказал, что он тоже, насколько я понимаю, хлебнул на войне лиха полной мерой.
Начавшийся в тонах полушутливых (я не раз замечал, что люди, особенно молодые, часто говорят об опасностях — прошедших или будущих, — не демонстрируя своего чересчур серьёзного отношения к ним), разговор быстро приобрёл другую окраску. Симонов, согнав улыбку с лица, высказал убеждение, что корреспонденту на войне достаётся, конечно, меньше, чем лётчику, но что самая трудная доля — у солдата: пехотинца, артиллериста, сапёра…
Я вспомнил эти его очень серьёзно, даже с каким-то нажимом произнесённые слова три десятка лет спустя, когда увидел сделанные по его инициативе, по его сценариям и при его прямом участии, уже в последние годы жизни, фильмы о солдатах. В них он постарался воздать должное тем, к кому война обернулась самой трудной своей стороной.
И мне кажется это очень характерным для Симонова — придя в какой-то момент к правильной, справедливой, общественно значимой мысли, рано или поздно обязательно постараться донести эту мысль людям, в возможно более убедительной, действенной, если можно так выразиться, самой «многотиражной» форме.
Евгений Иосифович Габрилович в книге «О том, что прошло» очень точно охарактеризовал довольно распространённое в жанре воспоминаний направление: «медовые мемуары».
Так вот — Симонов в таких мемуарах не нуждается.
Я не знаю человека, который в своей жизни никогда не бывал бы не прав.
Бывал не прав и Симонов. Иногда настолько не прав, что сам до конца дней своих не смог забыть об этом.
Но — и в этом он отличался от большинства — он умел учиться у жизни. Умел делать выводы из ошибок — чужих и своих собственных (последнее, как известно, часто бывает труднее). Умел, поняв, что был в чем-то не прав — тем более, крупно не прав, — так прямо, во всеуслышание сказать об этом, как, пожалуй, никто другой из известных мне людей.
Пятидесятилетие Симонова отмечалось в Центральном Доме литераторов. Большой зал Дома был битком набит, люди стояли в проходах, многие, кому не хватило места, слушали в соседних помещениях радиотрансляцию юбилейного вечера. Не хватало разве что конной милиции. Широкая популярность писателя проявилась в самом что ни на есть явном виде.
Вечер шёл так, как положено: по адресу юбиляра произносились речи — серьёзно прочувствованные и полушутливые, подчёркнуто почтительные и подчёркнуто фамильярные (в которых сквозило: «Вот с каким человеком я на короткой ноге!»), но все без исключения — на то и юбилей — предельно восхвалительные. Как правило, юбиляр в такой обстановке приходит в умилённое состояние духа и начинает казаться самому себе — не зря ведь люди говорят! — этаким ангелом без крыльев.
А Симонов, когда дело дошло до его ответного слова, встал и сказал, что он, конечно, очень признателен всем выступавшим за произнесённые ими добрые слова, но сам отлично знает, что поступал в жизни не всегда безупречно. Есть поступки, о которых он глубоко сожалеет. Разумеется, и в будущем он, как всякий человек, не застрахован от ошибок. Но чего — он обещает — не будет никогда, это чтобы он пошёл против своих собственных убеждений.
Я, разумеется, не помню сейчас слов, сказанных тогда Симоновым, текстуально, но смысл их забыть невозможно. И надо было видеть и слышать, какой овацией встретил их зал! Психологически такая реакция, мне кажется, объяснима: присутствуя на юбилейных собраниях и слушая то, что на них обычно говорится, мы где-то в глубине подсознания все время вносим поправку на «юбилейность» происходящего — чувствуем, что в действительности не такая уж сплошь розовая биография героя торжества. А тут откровенные, выстраданные слова Симонова сразу поставили вещи на свои места, не оставили возможностей для последующих «послеюбилейных» коррективов.
Пришлось мне впоследствии слышать — правда, от одного только человека — и такое мнение, что ответное слово Симонова на этом вечере шло «не от души, а от ума». Понимал, мол, он сам, что есть в его биографии не лучшие страницы, которые участники вечера так или иначе хорошо помнят, независимо от всех юбилейных славословий; вот и решил он, умница, сам пойти «навстречу опасности», чтобы таким ходом лучше нейтрализовать её.
Не могу с такой позицией согласиться. Во-первых — и это, наверное, главное — слова Симонова на том вечере прозвучали предельно искренне. Думаю, что, давно зная его, малейшую фальшь, будь она в этих словах, я бы обязательно уловил. Во-вторых, если уж говорить об уме, то не так-то это плохо, когда ум — особенно ум незаурядный — направлен у человека на бескомпромиссную объективную оценку своих суждений и поступков. Такая направленность ума не может не отложиться и на душе. И, наконец, в-третьих — прожив после того вечера ещё без малого полтора десятка лет, Симонов ни разу не дал повода усомниться в том, что сказанные им слова — не только слова. Как говорится, практика — критерий истины.

Автор этой книги — летчик-испытатель. Герой Советского Союза, писатель Марк Лазаревич Галлай. Впервые он поднялся в воздух на учебном самолете более пятидесяти лет назад. И с тех пор его жизнь накрепко связана с авиацией. Авиация стала главной темой его произведений. В этой книге рассказывается о жизни и подвигах легендарного советского авиатора Валерия Павловича Чкалова.
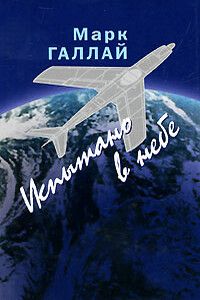
Легендарный летчик Марк Лазаревич Галлай не только во время первого же фашистского налета на Москву сбил вражеский бомбардировщик, не только лично испытал и освоил 125 типов самолетов (по его собственному выражению, «настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что летать не может»), но и готовил к полету в космос первых космонавтов («гагаринскую шестерку»), был ученым, доктором технических наук, профессором. Читая его книгу воспоминаний о войне, о суровых буднях летчика-испытателя, понимаешь, какую насыщенную, необычную жизнь прожил этот человек, как ярко мог он запечатлеть документальные факты, ценнейшие для истории отечественной авиации, создать запоминающиеся художественные образы, характеры.

Яркие, самобытные образы космонавтов, учёных, конструкторов показаны в повести «С человеком на борту», в которой рассказывается о подготовке и проведении первых космических полётов.
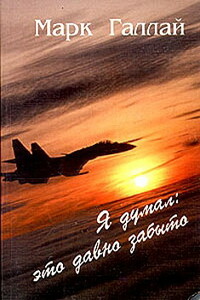
Эта рукопись — последнее, над чем работал давний автор и добрый друг нашего журнала Марк Лазаревич Галлай. Через несколько дней после того, как он поставил точку, его не стало…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.