Вспомнишь странного человека - [11]
Думбан, друг моего тогда уже покойного знакомого Дмитрия Ивановича Лонго, был, так сказать, вполне «рассекречен» биографически и, хотя киевский караим по происхождению, знал огромное количество «вспыхнувших» и «погасших» молодых людей начала века на обеих сценах – петербургской и московской. В первую войну он воевал поручиком, а после 1918-го, до своей крошечной пенсии, всю жизнь работал счетоводом в домоуправлениях. Жил он в подвале на Тихвинской. В кафе «Националь», куда я его пригласил на солянку и бефстроганов, я просто спросил: «Кто был Михаил Иванович? Расскажите мне о нем все, что вы знаете, если, конечно, это не секрет и не повредит никому из живых».
Вынув из нагрудного кармана крошечный батистовый платочек и тщательно протерев свою рюмку, Аса Думбан налил мне и себе и воскликнул: «Сэр! Нераскрытие вами псевдонимов, так же как и воздержание от отождествления носителей имени-отчества с носителями фамилий не только делают честь вашей скромности, но и, безусловно, заслуживают поощрения в виде ответной откровенности вашего случайного – это я, сэр, – но от того не менее благодарного гостя». Он выпил рюмку и продолжал: «Но прежде чем приступить к рассказу о том немногом, что я знаю о нем и о немногих – о, совсем немногих, почти не о чем говорить – других персонажах нашей короткой драмы, вы, из чистого снисхождения к словесным излишествам старого жуира, разрешите мне небольшое введение. Ну, как если бы драма уже окончилась, но что-то, относящееся не столько к сюжету и характерам, сколько к сцене, атмосфере и условиям развития действия – остается недопонятым, и я, сэр, с авансцены, задним числом ввожу зрителя в обстоятельства, самим действием не проясненные. Но это – упаси Боже – не моралитэ, о нет! Я бы назвал это, пожалуй, уточнением впечатления, уже сложившегося у зрителя, но еще не оформившегося в мысль. Итак – в дорогу! Я только что назвал эту драму – я говорю только о нашей частной драме – короткой. Но ее, позвольте, я бы рискнул повести от 1911-го, о'кэй! А закончилась она – не более чем условно, мой дорогой друг, то есть по условиям нашей маленькой постановки, сейчас, через пятьдесят шесть лет. И то только потому, что вы сами предварили ее завершение, пригласив меня на авансцену. Но ведь я еще жив, не станете спорить? Как живы и Маша, и Иван, и Вадим, да и сами вы, ту dear interloper. О, коротка эта драма только потому, что, рассказывая с конца, ее можно сжать до шести строк чужой анкеты или до четырех строк некролога, своего собственного. Но сама она в себе – длиной в десятки тысяч дней, сотни тысяч часов, миллионы мгновений нерасслышанного, непроизнесенного и неслучившегося! А я сижу зимой 1942-го в своем подвале на Тихвинской и разрезаю кусок стирального мыла – аккуратно и точно, перочинным ножом – на двенадцать кубиков, по числу месяцев. На каждом выдавливаю грифельком карандаша название по якобинскому календарю: жерминаль, флореаль, термидор... Так, забавляюсь. У меня нет продовольственной карточки, и мой дядька, Георгий Исхамалиевич Ферстон, подаривший мне мыло, запрещает подать заявление на ее получение. Как-нибудь, говорит, с этим куском продержишься. Через год я тебе другой подарю. А подашь заявление – привлечешь внимание, сам на мыло пойдешь. Меня никогда не арестовывали. Меня в жизни никто пальцем не тронул. Меня никто никуда не гнал. Я продвигался от секунды к секунде по едва обозначенной тропинке через нескончаемый пустырь. А теперь, когда я сижу с вами в приличном ресторане и даже более или менее прилично одетый, вы, сэр, говорите: «Ваш выход, поручик Думбан». Я выхожу, а драма-то – как вы ее придумали уже кончилась. Великолепно! Можно наконец и поговорить – публика есть, и она ждет. Но ведь это – неправда! Я и сейчас, сидя здесь с вами, все еще на той тропке, на пустыре. Что, шикать начинают? Черт с ними! Я найму банду клакеров, и они будут мне аплодировать из черной дыры партера! Ну ладно, все давно разошлись. Я стою и рассказываю, мгновение за мгновением – вот уж скоро полвека. Кончили?»
Мы съели солянку, и я заказал еще бутылку. «Теперь – о частном. Не спросите ли вы себя, отчего никто, ни один персонаж нашей пьесы ни разу не назвал Михаила Ивановича по фамилии? Боялись? Вздор! Ни покойнице Елене Константиновне, ни Ивану, ни вашему, сэр, покорному слуге уже давно нечего бояться. Так отчего же? В этом, уверяю вас, нет никакой загадки. Просто людям, его любившим, это и в голову бы не пришло, они знали его страсть к анонимности задолго еще до 1917-го. Страсть, ставшую обсессией после того, как он покинул страну, которой он столь опрометчиво и – да не зачтется мне это за осуждение – безуспешно, пытался служить. Оттого-то и я сейчас, когда все это уже вообще не имеет никакого значения, тоже не назову его по фамилии. Это – вопрос стиля, mу dear fellow, а стиль – выше правды. Стиль – это честь. Когда я тупо волочил ноги по своему пустырю, я не видел конца и не ждал его. Нет, я не был готов к крушению жизни, но был подготовлен – не знаю, кем и как, – к безжизненности, к анабиозу, да простится мне этот прозаизм. Для Михаила Ивановича 1917-й был не крушением жизни, а уничтожением себя самим собой».
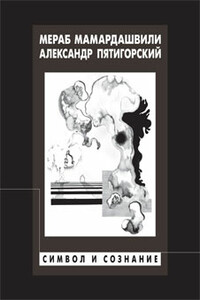
Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках. Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.) Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей — Декарта и Асанги — и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть, отсюда и посвящение «авторы — друг другу»).Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорского «Символ и сознание» посвящена рассмотрению жизни сознания через символы.
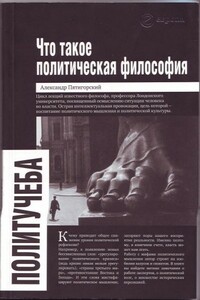
К чему приводит общее снижение уровня политической рефлексии? Например, к появлению новых бессмысленных слов: «урегулирование политического кризиса» (ведь кризис никак нельзя урегулировать), «страны третьего мира», «противостояние Востока и Запада». И эти слова мистифицируют политическое мышление, засоряют поры нашего восприятия реальности. Именно поэтому, в конечном счете, власть может нам лгать. Работу с мифами политического мышления автор строит на изобилии казусов и сюжетов. В книге вы найдете меткие замечания о работе экспертов, о политической воле, о множестве исторических персонажей.

Книга философа и писателя Александра Пятигорского представляет собой введение в изучение именно и только философии буддизма, оставляя по большей части в стороне буддизм как религию (и как случай общего человеческого мировоззрения, культуры, искусства). Она ни в коем случае не претендует на роль введения в историю буддийской философии. В ней философия, представленная каноническими и неканоническими текстами, дается в разрезах, каждый из которых являет синхронную картину состояния буддийского философского мышления, а все они, вместе взятые, составляют (опять же синхронную) картину общего состояния буддийской философии в целом — как она может представляться философскому мышлению сегодняшнего дня.
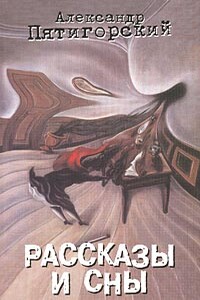
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.
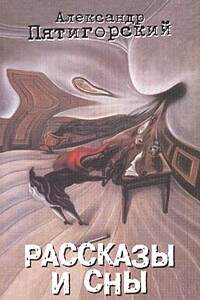
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.
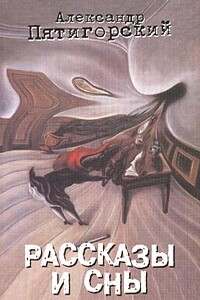
Александр Пятигорский – известный философ, автор двух получивших широкий резонанс романов «Философия одного переулка» и «Вспомнишь странного человека…». Его новая книга – очередное путешествие внутрь себя и времени. Озорные и серьезные шокирующие и проникновенные, рассказы Пятигорского – замечательный образчик интеллектуальной прозы.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
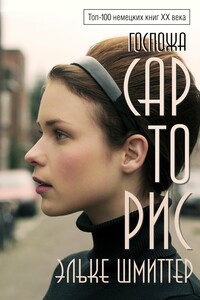
Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.
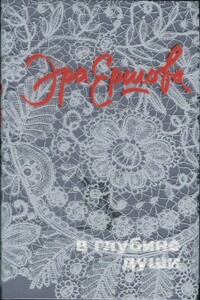
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.