«Всех убиенных помяни, Россия…» - [41]
И почему мне было так радостно, умирая, говорить эти совсем не скорбные, совсем не похоронные слова?
— Они не знают, что ты — невеста. Мне так хорошо… Моя невеста. Вот отдохнем, а на поле — солнце. Усадьба, где Стенька Разин… Мама благословила уже. Видишь, церковь. Звонарь такой седой, сердитый. Но это ничего… Здесь покоится няня. На еще, у меня много, целый фунт, шестьсот пудов, миллион. Почему ты не…
Падали крошки на солому, на глиняный пол. Серебряной парчой колыхалась паутина. А ветер пел. Пел ветер.
— Мы будем ужинать на балконе, — говорил я, плача от радости, — долго, две недели. Все ужинать, ужинать на балконе, у колонн. Балкон… Балтийское… Бальмонт… О, моя девочка, о, моя ласточка, в мире холодном с тобой… На хлеба, Люка! Ты уже спишь, родненькая? Ну, спи, я ничего. Я так. Плечо мерзнет? Закрою. Ты не смейся, я поцеловать пальцы… А ветер — гу, гу-гу-гууу. Люблю тебя. Насовсем, навсегда. У меня еще есть, у меня еще много… Понимаешь, — булка, и откусить. Она мягкая, а корочка — хрустит. Вот смешно — откусить и потом… корочка… И мягкая…
Так ползли часы, дни.
Может быть, этого и не было. Было, наверно.
Андрей Иванович, прижав голову к коленям, покатился по полу. Сверкнуло стекло в сломанных очках, иссиня-черное лицо прильнуло к глине, слизывая крошки громко хлюпающим языком. Андрей Иванович ущипнул меня за ногу и улыбнулся… шляпа его на шест, маяк, решил я. Вот хорошо. Шляпа… И засмеялся трудным кашляющим смехом.
— Я, Андрей Иванович, женюсь. В половине второго. Мама уже… Это ничего. Будете шафером…
Он торопливо сделал из соломы тонкий жгут и замахал им, качаясь на согнутых коленях.
— Имею честь. Профессор санкт-петербургский и ладожский. Необычайно. Чайно. Пекин, Нанкин и Кантон сели рядом в фаэтон. Хо! Нобелевская премия — мне. Девять лет я искал. И вот. Пожизненный памятник должны…
— Мама!
За спиной застонало что-то, зашумело.
— Еще живу, мальчик. Ты?
Я, как Евангелие, поцеловал спутанную косу Люки.
— Тоже. И она, живая. Мы не умрем, мама. Я, мама, люблю ее. У меня еще есть…
Андрей Иванович вытянул квадратную, прыгающую голову и сказал, быстро вращая мутными зрачками:
— Открытие: Бога нет. Это перевирает. Я искал, нашел: нет Бога…
Сведенная судорогой рука затряслась у стены. Нечеловеческой болью хлестнул тишину крик:
— Повесили Бога! Я открыл: на дыбе — Бог…
Он изогнулся, пополз к девушке.
— Трупоед, людоед, людовед… Ладожский… Професс… фес… А у той — отрезана нога. Ели ногу. Хотите… хи… руку… мясо…
Я приподнялся на локтях и упал на Люку, обнимая холодеющие, неподвижные плечи. Гладил опрокинутый назад лоб, открытые глаза, щеки и говорил ему, в сломанных очках:
— Пошел вон, милый. Ну, ты видишь же. Пошел вон… Мама, он хочет…
Андрей Иванович, хрипло дыша, покатился к порогу.
— Шутя… Я же не… Вы ошиблись. Ошибся… Мне бы раз только, раз… немножечко…
Солнечным утром вышли мы на север. Солнечным днем нас нашли в полуразрушенной избе с узорчатой пряжей паутины. Странные, отрывистые речи рассыпались в мертвой тишине. Почему-то внесли к нам маяк наш, надежду нашу — длинный шест с соломенной шляпой наверху. Подымали бесчувственную маму, дымили сигарами. И никак я не мог понять, почему сошедший с ума Андрей Иванович плевал в несгибающегося старика с длинным сухим лицом и кричал ему, показывая на Люку:
— Открытие… хи… А она уже… пахнет. Третий день молчит… Я хотел…
Старик вздохнул, направляясь ко мне. А я плакал так, как плачут дети, вытирая кулаками слезы. Плакал, падая на пол, стуча разрывающейся головой в закопченные стены, плакал и просил, просил, задыхаясь, захлебываясь:
— Ну, встань, Люка! Встань. Нам же в церковь… Встань, лепешки здесь. Рис… Уже не надо думать. Встань!
>(Рижский курьер. 1924. № 978)
Задние колеса вагона скрипели очень подозрительно. Дребезжащий тягучий звук надоедливо отдавался в углах тоскливым всхлипыванием. Может быть, перегорала ось. Впрочем, Фимка говорил, что железо ни за какие двадцать не горит, и все это господские выдумки. Был он очень умен, этот огненно-рыжий толстяк с недавно ампутированной рукой.
Иногда весь вагон подпрыгивал… Лязгала тогда ржавая крыша теплушки, с треском раскрывались двери. Потом, успокоившись, снова подозрительно скрипели задние колеса.
У раскаленной докрасна чугунки, закрыв глаза, сидел Папаша. Как его звали по-настоящему — никто не знал. Влез он в вагон на станции Лозовой, просунув сперва огромную плетеную корзину с пожелтевшими от времени газетами. Семен Ткаченко, старший унтер, газетами растапливал печку, а в корзине спал Черт, всклокоченный пес неизвестной породы. Его тоже подобрали на Лозовой.
Закрыв выцветшие глаза, Папаша сидел у печки и жевал консервную воблу, сплевывая кости в огонь.
Облитый соусом хвост шлепнулся на раскаленный чугун, и по нарам серой волной прошел чад.
— Хочешь, дед, я тебе морду набью? — предложил Фомка, высовывая голову из-под шинели.
— Вони-то, вони сколько. И не заснешь. Не нажрался задень, что ли?
Папаша осторожно выплюнул кости в банку и выбросил ее за дверь. На минуту колыхнулась узкая, засыпанная звездами полоса ночного неба. Морозный ветер ворвался в теплушку. Тявкнул в корзине Черт.
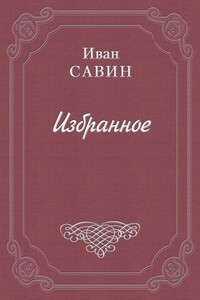
«Хорошо, Господи, что у всех есть свой язык, свой тихий баюкающий говор. И у камня есть, и у дерева, и у вон той былинки, что бесстрашно колышется над обрывом, над белыми кудрями волн. Даже пыль, золотым облаком встающая на детской площадке, у каменных столбиков ворот, говорит чуть слышно горячими, колющими губами. Надо только прислушаться, понять. Если к камню у купальни – толстущий такой камень, черный в жилках серых… – прилечь чутким ухом и погладить его по столетним морщинам, он сейчас же заурчит, закашляет пылью из глубоких трещин – спать мешают, вот публика ей-Богу!..».
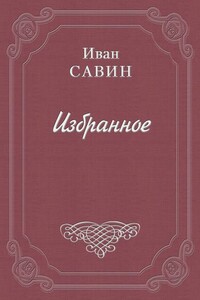
«…Валаам – один из немногих уцелевших в смуте православных монастырей. Заброшенный в вековую глушь Финляндии, он оказался в стороне от большой дороги коммунистического Соловья-Разбойника. И глядишь на него с опаской: не призрак ли? И любишь его, как последний оплот некогда славных воинов молитвы и отречения…».

Имя Ивана Савина пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии. Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.Это, неполная, к сожалению, электронная версия книги Ивана Савина "Всех убиенных помяни, Россия..." (М.:Грифон, 2007)
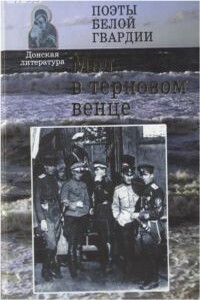
В 2008 году настали две скорбные даты в истории России — 90 лет назад началась Гражданская война и была зверски расстреляна Царская семья. Почти целый век минул с той кровавой эпохи, когда российский народ был подвергнут самоистреблению в братоубийственной бойне. Но до сих пор не утихли в наших сердцах те давние страсти и волнения…Нам хорошо известны имена и творчество поэтов Серебряного века. В литературоведении этот период русской поэзии исследован, казалось бы, более чем широко и глубоко. Однако в тот Серебряный век до недавнего времени по идеологическим и иным малопонятным причинам не включались поэты, связавшие свою судьбу с Белой гвардией.
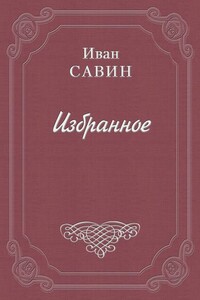
«…Угол у синей, похожей на фантастический цветок лампады, отбит. По краям зазубренного стекла густой лентой течет свет – желтый, в синих бликах. Дрожащий язычок огня, тоненький такой, лижет пыльный угол комнаты, смуглой ртутью переливается в блестящей чашечке кровати, неяркой полосой бежит по столу.Мне нестерпимо, до боли захотелось написать вам, далекий, хороший мой друг. Ведь всегда, в эту странную, немножко грустную ночь, мы были вместе. Будем ли, милый?..».

«Хорошо на скитах! Величественная дикость природы, отдаленный гул Ладоги, невозмутимое спокойствие огромных сосен, скалы, скалы, скалы… Далеко монастырь. Близко небо. Легко дышится здесь, и молиться легко… Много, очень много на Валааме пустынь и скитов, близких и далеких, древних и новопоставленных…».
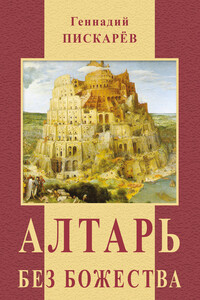
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Как предстовляют наши дети жизнь в СССР? Ниже приведены выдержки из школьных сочинений. Несмотря на некоторую юмористичность приведённых цитат, становится холодго и неуютно от той лжи, котору. запрограммировали в детский мозг...А через десяток-другой лет эти дети будут преподовать и писать историю нашей страны. Сумеют ли они стряхнуть с себя всю ту шелуху брехни, которая опутала их с рождения?...