Все, способные дышать дыхание - [103]
Воздух внезапно становится невыносимо прозрачным, и теперь пустыня видна до самого горизонта, до самого Рахата, до его разрушенных стен и сгибающихся под плодами олив веток, – а над этой прозрачностью ползет черный воздух, черная полоса, из которой с криком падают на землю замешкавшиеся птицы. Крысы останавливаются и начинают рыть норы. Марик Ройнштейн, подвывая и ругаясь всеми худшими словами, какие он только знает, тоже начинает рыть землю, он все роет и роет, ломая ногти, но твердая, как камень, сухая почва Негева поддается плохо.
– Помогите же мне! – завывает Марик Ройнштейн. – Да помогите же вы мне, мерзкие суки!
Кое-как Марик Ройнштейн забивается в раскопанную трещину, наваливает на себя землю, натягивает на лицо футболку, закрывается с той стороны, откуда ползет буря, надерганными кое-как ветками ротема[163]. Мысли о Соне наползают на него вместе с бурей, от стыда и ужаса он воет, он хочет все исправить, он хочет вернуться назад и все исправить.
– Мне надо обратно! – завывает он. – Ну пожалуйста, мне надо обратно!
Ему никто не отвечает.
Внезапно становится ясно, что Зеев Тамарчик этого сделать не может. Он подчинится приказу, конечно, но начнет выбирать день с идеальными погодными условиями (какими? что? погода не меняется – но он сумеет что-нибудь придумать про скорость ветра, про кучность облаков, про температуру воды, про хуй на палочке), потом окажется, что нет достаточных запасов вещества… как оно называется? – потом то, потом се… Несколько секунд Цвика Гидеон всерьез думает назначить ответственным за все Марика Ройнштейна – вот уж за этим говнюком не заржавеет. Но даже если бы всерьез можно было поставить на такую задачу двенадцатилетнего сопляка, это было бы неправильно, думает алюф Цвика Гидеон. Нет, ему нужен тот, кто их не ненавидит, а боится, для кого вся ситуация будет подтверждением его худших опасений, для кого… И тут алюф Цвика Гидеон находит решение, блестящее решение, достойное великого стратега. «Я уверен, что проблема не только у нас, – говорит он. – Я читал про них и кино смотрел: они умеют передавать сообщения на огромные расстояния, эти твари. Нам надо объединить усилия, надо выступить единым фронтом». Завтра он поедет в караванку «Далет», пусть отправят голубя тат-алюфу Чуки Ладино. Может быть, он уже в курсе происходящего, а может, и нет; что ж, алюф Цвика Гидеон откроет всем глаза на общую опасность. И пусть операцией заведует Йоав Харам, Йоав Харам отлично справится, ему будет полезно. Илануш говорит, что среди населения придется провести разъяснительную работу.
– Я вернусь в лагерь и приеду назад на квадроцикле, – говорит Марик Ройнштейн, держась за ободранную шею, повязанную куском футболки. – Я знаю, где они прячут настоящий квадроцикл, настоящий квадроцикл, я знаю, где его прячут. Квадроцикл не разговаривает, он нас не выдаст. Я нагружу его пайковым шоколадом, и водой, и крекерами, и кусками полипрена, у меня лучшие друзья работают на складах, они для меня ничего не пожалеют. Я вернусь и буду ставить вам полипреновые палатки. Я вернусь, даю честное слово, только отпустите меня.
Ему никто не отвечает.
Йоав Харам, директор караванки «Далет», хочет, чтобы животные перестали с ним разговаривать. Этого он хочет каждый день – а сейчас он еще хочет, чтобы с ним перестали разговаривать все, абсолютно все. Маленькие серые трупы лежат по всему лагерю, просто маленькие – и совсем маленькие. «Странно, – говорит ветеринар Анри Голан, и Йоав Харам видит, что руки у него дрожат; внезапно Йоав Харам понимает, что ветеринар Анри Голан мертвецки пьян. – Одни, видно, попрятались в норы, мы их не достали, конечно, а другие, наоборот, почему-то лезли наружу». «Они что-нибудь говорили?» – вдруг спрашивает Йоав Харам. Ветеринар Анри Голан смотрит на него и молчит.
– Я больше не могу, – говорит Марик Ройнштейн, с трудом ворочая распухшим языком.
Те, кто остался в живых после этого дня перехода, – может быть, половина, может быть, всего тысяча или даже меньше – встают вокруг него и ждут. Из задних рядов подкатывают бутылку с водой, он пьет, пьет, выпивает ее всю, никто его не останавливает. Марик Ройнштейн ложится на землю и смотрит, как перекати-поле медленно перескакивает через несколько серых тушек, оставшихся лежать там, где только что прошла серая волна.
– Оставьте меня здесь, – говорит Марик Ройнштейн, – оставьте меня, пожалуйста, здесь, и все.
Они стоят вокруг него сплошной низкой стеной и ждут. Со стоном Марик Ройнштейн поднимается.
– Вы никогда не дойдете, суки, – говорит он.
Ему никто не отвечает.
В Рахате Бениэль Ермиягу лежит, скрючившись от боли, и густой баритон говорит ему, похохатывая, откуда-то из левого подреберья, что идут сееерые, идут беееелые, по жаре идуууут, говнюка ведууууут, ахаха, ахаха.
96. И задорный стук молотков
Цит. по «Пыльная дорога: непрозвучавшие беседы», фонд «Духовное наследие митрополита Иерусалимского и Ашкелонского Сергия (Омри) Коэна», 2028, Новый Ашкелон.
«…Не помню, чтобы когда-нибудь я просыпался с таким спокойным и даже радостным предчувствием нового дня, как тогда. Караванка „Гимель“ нравилась мне, я готов был видеть в ней город, и мне казалось, что город этот постепенно обустраивается, и воображение услужливо подсовывало мне какие-то пряничные картинки, в которых фигурировали стропила, и цветочные горшки, и „задорный стук молотков“ – именно так. Дело, я думаю, было не только в особенностях моего состояния, о которых я сейчас скажу подробнее, но и в том, что „Гимель“ был фактически предоставлен начальством лагеря самому себе; происходили иногда вещи страшные, и теперь я со стыдом понимаю, что их было много больше, чем я тогда замечал, но я, выздоровевший и окрепший, словно бы не видел их – а вернее, видел и слышал, но никак не отмечал для себя, как будто это были вещи совершенно второстепенные. После бесконечно длинного дня я возвращался в свой караван далеко за полночь, едва волоча от усталости ноги, но утром с легкостью просыпался часов в семь или полвосьмого и был готов снова жить. Я был занят – о, как пóлно я был занят! У меня начал складываться небольшой приход, и я говорил себе, что могу расценивать это как знак некоторой подлинности моего пасторского призвания. Я крестил и отпевал, исповедовал и читал проповеди; что-то в этих проповедях меня беспокоило: они были гладкими, находили отклик – но казались мне какими-то слишком ловкими; я и сам не взялся бы определить, что имею в виду, а просто обещал себе из недели в неделю, что над следующей проповедью поработаю подольше. Но ведь я был так занят! Требы, воскресная школа, куда к моему удивлению, приводили детей и те, кто не был моими прихожанами (многим из них, я знаю, хотелось занять детей чем-нибудь разумным от греха подальше – а с изучением иудаизма было связано, по-видимому, слишком много разнообразной социальной специфики), бесконечные разговоры с моей растерянной, измученной бытовыми трудностями и убитой потерями паствой – все это само собой разумелось; не настораживало меня ни то, с какой легкостью я находил ответы на невозможно сложные, невообразимые в прежние времена вопросы, от которых даже отцы церкви пришли бы в остолбенение, ни как часто те, кто посещал одну службу, не являлись на вторую. Паства моя оказывала мне бесценное внимание и не скупилась на комплименты – я помнил о грехе гордыни и говорил себе, что таким образом они выражают свою привязанность не ко мне, а к церкви, но их поведение, безусловно, очень поддерживало меня в моих трудах и придавало им опасной легкости. Я вызвался работать в одном из стройотрядов, которых в лагере насчитывалось не менее двух десятков, и мои мышцы ночью сладостно ныли от работы пилой, рубанком или молотком, сделанными тут же, в лагере. Я брался за любую, самую тяжелую работу, но быстро оказался бригадиром – и, думаю, дело было не в моих отсутствующих трудовых навыках, а в той оптимистичной легкости, с которой все давалось мне в эти дни. Вечером я успевал зайти в старческий лазарет; первое время у меня были опасения, что недавно выбранный верховный раввин лагеря, тоже регулярно посещавший больных, вступит со мной в какого-нибудь рода тихую конфронтацию, но он всячески приветствовал; по немой договоренности я посещал это печальное место как частное лицо – я все-таки понимал, что я, по большому счету, гость в его доме, и меня это не угнетало. Небольшой голос, который обнаружился у меня еще в семинарии, помог мне получить третьестепенную роль в нашем лагерном театре: я пел Папу Малыша в довольно безумной постановке „Карлсона“. Наконец, я хотя бы пятнадцать минут в день проводил в одном из „спортзалов“ под открытым небом с грубыми тренажерами из гнутых труб – такие спортзалы были отстроены по всему лагерю: мне хотелось, чтобы и тело мое подтягивалось вслед за духом, и я отжимался и делал приседания, несмотря на тянущую боль в недавней ране. И я, конечно, всегда спешил – мне ведь надо было сделать так много важных дел, – и приходилось очень стараться, чтобы не частить в требах. Вечером, перед тем как я засыпал, ушедший день прокручивался в моем сознании длинным списком, состоящим из дел больших и малых, и список этот приносил мне спокойное удовлетворение: я был полезен людям, я был цельным, я имел право сотворить свою вечернюю молитву в полном сознании того, что я нашел себе место в этом искалеченном мире, что я приношу людям какую-никакую пользу. Спешил я и в тот день, когда после службы ко мне подошел мужчина с насупленной девочкой лет шести; уж не помню, какие меня ждали срочные дела, – сострадательное подсознание убеждает меня, что я спешил к умирающему, но я твердо помню, что это не так: я, кажется, вызвался помочь с оформлением наших театральных декораций. Мужчина заговорил; я стоял, удерживая на лице маску сочувственного смирения, но перед моим внутренним взором прокручивался тот самый список сегодняшних дел. Он как будто расплывался, разжижался: как же я не скажу себе сегодня перед сном, что принес помощь людям еще и покраской декораций? Мужчина вдруг начал всхлипывать, и я с ужасом понял, что не слушаю его, а в следующую секунду лицо девочки уткнулось мне в ногу: мужчина подтолкнул ее ко мне, и она упала на меня, как равнодушная ко всему кукла. Тут я наконец понял, что говорит мужчина: он отказывался от девочки, своей дочери. Его жена и мать погибли под руинами Рош-а-Аина, он больше не справляется с дочерью один, он боится сделать что-нибудь ужасное с собой, но ведь и ее одну оставить тут он не может, а значит, надо… Он все подталкивал и подталкивал ко мне девочку: „Вы ее вырастите, – бормотал он, – мне про вас сказали, вы хороший человек, а я не могу больше, не могу…“ „Вы сами не верите в то, что говорите, – сказал я, отстраняя девочку и подталкивая ее в руки отца. – У вас просто плохой день, вы любите ее, а Господь любит вас; приходите ко мне завтра с утра, я буду в двести третьем караване, приходите рано, и мы побеседуем“. Мужчина коротко взвыл, и девочка вдруг коротко взвыла точно таким же голосом; они стояли бок о бок так, будто раньше их руки ни разу не соприкасались. „Погуляйте с ней, – сказал я. – Почитайте ей книжку, а завтра я дам вам новых, только что вышедших“. Вдруг мужчина закрыл лицо рукавом и побежал прочь. Девочка медленно пошла за ним, как лошадь, которую ведут на длинной веревке, и видно, что веревка вот-вот натянется до предела. Сердце у меня колотилось. Я бежал в зону А32, где был наш Театр-Подле-Слоновника, как любила шутить труппа; я пытался вспомнить, что мне поручили принести, но на меня как будто наползало черное облако, воздух вокруг меня как будто сгустился, а сам я оставил свое тело, обливающееся потом, на волю судьбы, и смотрел на него со стороны, и мне было тошно от его накачанных мышц и загорелого лица. То была минута чистого просветления, какое бывает не только даром Господним, но мукой, ибо в подобные мгновения открываются глаза у человека – „не для того, чтобы видеть, ибо и прежде они могли видеть“, и он узревает, что наг перед Господом – и что ему дано узреть свою наготу, ибо он совершил поступок, лишивший его божьей благодати. Мне трудно описать, что творилось со мной; я только понял вдруг и сразу, что подлинной милости, подлинного сострадания к ближнему почти не осталось во мне, и тем ужаснее звучали у меня в голове слова этого несчастного отца: „Вы хороший человек…“ Кто я теперь был на самом деле, подменивший подлинное сострадание бесконечной чередой „добрых дел“ и считавший физическую усталость признаком собственной праведности? Я стоял, как сейчас помню, позади одной из столовых – кажется, той, про которую ходили слухи, что она снабжается лучше, – и от огромной горы манговых очисток на пластиковом подносе с клеймом Службы Чрезвычайных Ситуаций шел невозможно прекрасный, невозможно сладостный запах – и вдруг этот запах показался мне искусственным, даже синтетическим, так что я принюхался. Реальность навалилась на меня: я знал, что в столовой на завтрак давали кашу, консервированный тунец и фрукты, в обед давали фрукты, кашу и консервированное мясо, а ужин будет мало отличаться от обеда и завтрака… Весь запал мой исчез, и у меня чуть не подкосились ноги: я увидел страшную нищету, из которой нам, может быть, никогда уже не доведется выбраться; тесные караваны, в которых люди, может быть, ссорятся с утра до ночи, невыносимо устав друг от друга; сердца, истекающие кровью в тоске по погибшим или пропавшим близким; детей, живущих в хаосе лагеря для перемещенных лиц… В этот момент, в этот страшный момент я готов был поклясться, что не я один лишен в этом мире Божией благодати, а что Божья благодать навеки ушла из мира, и если бы спросили меня, наказал ли нас Господь тем, что с нами сейчас происходит, отвернулся ли он от нас в гневе за наши грехи, – я бы, наверное, не нашел в себе сил возразить. Я побрел к своему каравану – так, по крайней мере, мне казалось, на самом же деле я не знал, куда иду. Помню, как я понял, что уже очень поздно, потому что на улицах лагеря почти никого не было; один человек, сильно пахнущий мылом, шепотом предложил мне купить у него мыла и приоткрыл куртку: на подкладке был пришит крючок, а на крючке болтались четыре куска не виданного с мирных времен голубого туалетного мыла, пробитые насквозь и подвешенные на веревочках. Эта лукавая метафора моего ужасного состояния показалась мне омерзительной, и я с тоской подумал, что вот так человек начинает видеть в повседневных событиях издевательские происки Князя тьмы. Я убежал от этого торговца и вновь оказался позади передовой столовой: так я понял, что хожу по лагерю кругами и что ум мой тоже бегает кругами, задыхаясь, ибо Тот, к кому привык я обращать свои помыслы перед лицом тяжких испытаний, больше не отвечал мне; я был один – я верил, что был один. „Я должен взять себя в руки“, – подумал я, но не мог и помыслить пойти домой и лечь в кровать; тогда я решил, что теперь буду сворачивать то направо, то налево. Вдруг лагерь кончился: передо мной был луг, и какие-то тени качались на лугу, и все освещал холодный лунный свет, и я слышал что-то вроде приглушенного пения. Я признаюсь: был момент, когда я почти поверил, будто вижу шабаш – таким это показалось естественным продолжением всего, что творилось у меня на душе; я почти представил себе, что сейчас столкнусь с силами тьмы лицом к лицу, и не усомнился, что буду поглощен ими, ибо они, может быть, теперь властвуют над землей. Я замер у дерева; сердце выскакивало из груди, и я услышал, как эти голоса говорят: „Дышим – и не думаем… Дышим – и не думаем…“ Помню, что там была зебра и было, кажется, несколько шакалов; множество маленьких фигурок я не разглядел, да и не смог бы: слезы уже застилали мне глаза. Я смотрел на них, ищущих того, чего сейчас так жадно искал я и боялся не найти, и думал, что Господь явил нам немыслимую и невообразимую благодать, объединив теперь наши души с душами тех, кто еще недавно был для нас в лучшем случае „меньшими братьями“, и даровав нам общую жизнь – по крайней мере, на нашем земном пути. Я стоял и слушал их; ничего комичного не было в их медитации, и я сам шепотом повторял: „Дышим – и не думаем… дышим – и не думаем“, – пока они вдруг не прервали свою встречу и не разошлись. До сих пор я совершенно твердо уверен, что Господь явил мне высшую милость, показав в тот вечер сперва все ничтожество души моей, а затем все величие своего замысла, и что иначе меня ожидал бы страшный путь медленной утраты веры – утраты через растворение в себе и в собственной горделивой пустоте».

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.
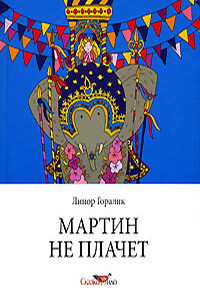
«Мартин не плачет» — увлекательная книга о маленьком говорящем слоне Мартине и необычном семействе Смит-Томпсонов. Ее герои, Марк, Ида, Джереми и Лу Смит-Томпсоны, живут в Доме С Одной Колонной совершенно сами по себе, потому что их родители — ученые, работающие в Индии, в загадочной Лаборатории по Клонированию. Именно они в один прекрасный день присылают своим детям посылку с крошечным, не больше кошки, но при этом самым настоящим слоном, да еще и говорящим! И не просто говорящим — умеющим распевать русские романсы, аккомпанировать себе на шотландской волынке и… очень сильно влюбляться.

«Холодная вода Венисаны» — история о тайнах, нарушенном равновесии и сильной, умной Агате, которая никогда не дает страхам победить себя. Венисана — странное государство. Здесь каждый играет свою правильную, выверенную роль: верит, что к воде подходить нельзя, сторонится необычных книг, предпочитает молчать и помнит о майских преступниках. Но крохотная случайность меняет привычный мир Агаты, и вот она уже падает, падает в опасную воду, но вместо гибели там ее ждет возможность узнать правду…

Эта книга была написана много лет назад под влиянием короткого текста Линор Горалик про Ахиллеса и Черепаху. Без текста Линор этой книги не было бы, поэтому у нее два автора, достаточно одиноких, чтобы не услышать друг друга, чтобы не быть услышанными никогда.

Захватывающая сказка-миф в нескольких книгах. История о страшной войне, развернувшейся между людьми и живущими в воде ундами, и о девочке Агате, оказавшейся между двух миров. Почему Агата оказывается отвержена своими друзьями? Почему нельзя ходить по правой стороне двойных мостов Венисаны? Как так получается, что Агата узнает в предательнице Азурре самого близкого человека во всем мире? Загадок становится все больше… Вторая книга цикла. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ростислав Борисович Евдокимов (1950—2011) литератор, историк, политический и общественный деятель, член ПЕН-клуба, политзаключённый (1982—1987). В книге представлены его проза, мемуары, в которых рассказывается о последних политических лагерях СССР, статьи на различные темы. Кроме того, в книге помещены работы Евдокимова по истории, которые написаны для широкого круга читателей, в т.ч. для юношества.

Молодого израильского историка Мемориальный комплекс Яд Вашем командирует в Польшу – сопровождать в качестве гида делегации чиновников, группы школьников, студентов, солдат в бывших лагерях смерти Аушвиц, Треблинка, Собибор, Майданек… Он тщательно готовил себя к этой работе. Знал, что главное для человека на его месте – не позволить ужасам прошлого вторгнуться в твою жизнь. Был уверен, что справится. Но переоценил свои силы… В этой книге Ишай Сарид бросает читателю вызов, предлагая задуматься над тем, чем мы обычно предпочитаем себя не тревожить.

Я и сам до конца не знаю, о чем эта книга. Но мне очень хочется верить, что она не про алкоголь. Тем более хочется верить, что она совсем не про общепит. Мне кажется, что эта книга про тех и для тех, кто всеми силами пытается найти свое место. Для тех, кому сейчас грустно или очень грустно было когда-то. Мне кажется, что эта книга про многих из нас.Содержит нецензурную брань.

Девять человек, немногочисленные члены экипажа, груз и сопроводитель груза помещены на лайнер. Лайнер плывёт по водам Балтийского моря из России в Германию с 93 февраля по 17 марта. У каждого пассажира в этом экспериментальном тексте своя цель путешествия. Свои мечты и страхи. И если суша, а вместе с ней и порт прибытия, внезапно исчезают, то что остаётся делать? Куда плыть? У кого просить помощи? Как бороться с собственными демонами? Зачем осознавать, что нужно, а что не плачет… Что, возможно, произойдёт здесь, а что ртуть… Ведь то, что не утешает, то узлы… Содержит нецензурную брань.
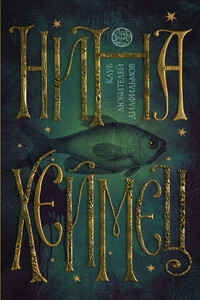
Эта книга – приглашение к путешествию. Эти путешествия совсем не обязательно сопряжены с дальними поездками, хотя, бывает, и с ними тоже. Путешествие – это изменение баланса между знакомым и незнакомым. Привычные вещи, города, ситуации могут оказаться не такими, какими мы привыкли их воспринимать, подчиняющимися малопонятным нам законам. Для этого надо в них всмотреться. «Всматриваться» – одно из ключевых слов в этой книге.

Замировская – это чудо, которое случилось со всеми нами, читателями новейшей русской литературы и ее издателями. Причем довольно давно уже случилось, можно было, по идее, привыкнуть, а я до сих пор всякий раз, встречаясь с новым текстом Замировской, сижу, затаив дыхание – чтобы не исчезло, не развеялось. Но теперь-то уж точно не развеется.Каждому, у кого есть опыт постепенного выздоравливания от тяжелой болезни, знакомо состояние, наступающее сразу после кризиса, когда болезнь – вот она, еще здесь, пальцем пошевелить не дает, а все равно больше не имеет значения, не считается, потому что ясно, как все будет, вектор грядущих изменений настолько отчетлив, что они уже, можно сказать, наступили, и время нужно только для того, чтобы это осознать.

Добро пожаловать в мир Никки Кален, красивых и сложных историй о героях, которые в очередной раз пытаются изменить мир к лучшему. Готовьтесь: будет – полуразрушенный замок на берегу моря, он назван в честь красивой женщины и полон витражей, где сражаются рыцари во имя Розы – Девы Марии и славы Христовой, много лекций по истории искусства, еды, драк – и целая толпа испорченных одарённых мальчишек, которые повзрослеют на ваших глазах и разобьют вам сердце.Например, Тео Адорно. Тео всего четырнадцать, а он уже известный художник комиксов, денди, нравится девочкам, но Тео этого мало: ведь где-то там, за рассветным туманом, всегда есть то, от чего болит и расцветает душа – небо, огромное, золотое – и до неба не доехать на велосипеде…Или Дэмьен Оуэн – у него тёмные волосы и карие глаза, и чудесная улыбка с ямочками; все, что любит Дэмьен, – это книги и Церковь.

В мире, где главный враг творчества – политкорректность, а чужие эмоции – ходовой товар, где важнейшим из искусств является порнография, а художественная гимнастика ушла в подполье, где тело взрослого человека при желании модифицируется хоть в маленького ребенка, хоть в большого крота, в мире образца 2060 года, жестоком и безумном не менее и не более, чем мир сегодняшний, наступает закат золотого века. Деятели индустрии, навсегда уничтожившей кино, проживают свою, казалось бы, экстравагантную повседневность – и она, как любая повседневность, оборачивается адом.

