Все души - [6]
Клер Бейз никогда не носила английских туфель, она носила только итальянские; у ее туфель быть не могло низких каблуков, пряжек, закругленных носов. Когда она приходила ко мне домой (не так уж часто), либо нам удавалось побыть вместе у нее дома (еще реже), либо мы встречались в какой-нибудь гостинице в Лондоне, Рединге или даже Брайтоне (в Брайтоне один только раз), она неизменно начинала с того, что избавлялась от обуви, носком одной ноги спихивая туфлю с другой; и двумя пинками отшвыривала обе, одну к одной стенке, другую – к другой, словно была владелицей несчетного множества пар и ничуть не боялась их повредить. Я немедленно хватал их и убирал с глаз долой: стоит мне увидеть ненадетые туфли, и мне тотчас представляется кто-то, кто их надевал – или мог бы надевать; и если вижу этого кого-то рядом с собой – без туфель – или вообще никого не вижу, то меня охватывает отчаянное беспокойство (по сей причине созерцание витрины традиционной обувной лавки автоматически вызывает у меня в воображении видение толпы людей, застывших как по команде, притиснувшихся друг к другу в неудобных позах). У Клер Бейз была привычка – приобретенная, кажется, в пору детства, за те несколько лет, что она провела в Дели и в Каире, – в помещении ходить без обуви по любому полу (но в Англии почти всюду полы затянуты ковровой тканью); а потому ее ноги вспоминаются мне чаще всего не такими, какими они, наверное, вспоминаются другим – крепкими и с заметными мускулами, – такими они виделись, когда она была в туфлях на высоких каблуках, – а точеными и почти девчачьими, какими они виделись, когда она была без туфель. Она часами курила и разглагольствовала, лежа на моей кровати, или на своей, или на гостиничной, причем никогда не снимала юбки, и юбка, естественно, задиралась кверху, так что видны были бедра, обтянутые верхней, более темной частью колготок, а иногда без них. На колготках часто спускались петли, потому что она ничуть не следила за плавностью своих движений; иногда же прожигала колготки сигаретой, даже не ощутив мгновенного ожога, потому что размахивала руками, отчаянно жестикулируя, хоть это не принято в Англии (возможно, приобрела эту привычку в странах своего детства), под звяканье браслетов, украшавших ее запястья, – она не всегда их снимала. Неудивительно, что искры сыпались каскадом. Безудержная экспансивность, склонность к преувеличениям: комок нервов, существо из породы тех, для кого оскорбительны сами понятия времени и мимолетности, потому что таким людям в любых ситуациях необходимы клочки вечности или, другими словами, им необходимо, чтобы время заполнялось – переполнялось – каким-то вечным содержанием. Из-за этого, из-за ее склонности беспредельно затягивать все начатое, мы подвергались опасности, что Эдвард Бейз, ее муж, увидит собственными глазами обратную сторону или кильватерный след того, о чем он наверняка знал и о чем пытался не думать либо же постоянно забывал. В результате мне каждый раз приходилось прерывать бесконечные разглагольствования Клер Бейз, увековечивавшие любой отрезок времени, ее комментарии по любому поводу, ее бесконечное словоизвержение; сама же она при этом лежала в постели, курила, жестикулировала, вещала, скрещивала ноги, раскидывала их, поджимала; превозносила либо кляла свое прошлое и настоящее, перескакивала с одних планов на будущее – свое, ближайшее – на другие, причем ни один из этих планов никогда не приводился в исполнение. Мне приходилось ставить будильник, проверять время по наручным часам, лежавшим на ночном столике, и решать, не пора ли нам расстаться; или прислушиваться (в Оксфорде) к неотвязным оксфордским колоколам, – они звонят каждый час, и каждые полчаса, и каждые четверть часа и трезвонят напропалую под вечер, когда сгущаются сумерки; мне приходилось торопить ее, искать ее туфли, которые сам же спрятал, и разглаживать на ней юбку, и поправлять, чтобы сидела как надо; и умолять Клер Бейз, чтоб не забыла зонтик, или брошку, приколотую к ковру, или кольцо, оставленное на раковине в ванной, или сумку со случайными покупками – вечно что-то покупала на ходу, где бы мы ни оказывались, даже по воскресеньям (а когда мы встречались у нее дома, я должен был выбрасывать окурки, и помогать ей перестилать постель, и открывать окно, и мыть мой стакан). Клер Бейз чего только не таскала с собою; и куда бы ни приходила, вынимала всё из сумки и раскладывала, словно собиралась расположиться в этом месте на всю жизнь, а между тем иногда у нас и часа не набиралось в промежутке между ее занятиями и моими. (В конце концов у меня дома остались ее серьги, она так и не удосужилась забрать их.) По счастью, из благовоспитанности, она не могла выйти на улицу без макияжа, а причесывалась в стиле «дикарка»: долгая грива, искусственно взлохмаченная, – так что мои ласки или длительный контакт с подушкой, по которой разметывались пряди, не могли нанести прическе существенного ущерба. Мне не приходилось приводить ей в порядок волосы перед расставанием, но нужно было следить, чтобы персональная ее вечность, установившаяся и поддерживавшаяся все то время, пока она была со мною, стерлась у нее с лица, следить, чтобы лицо у нее не полыхало румянцем, а глаза не заволоклись истомой. Надо было убедиться, что блаженство выветрилось (в Оксфорде расстояния очень короткие, времени не хватит даже на то, чтобы сменить выражение лица). Для достижения этой цели мне требовалось всего лишь попрактиковаться с ней на скорую руку в одном умственном упражнении, коему способствует ситуация адюльтера: помогать ей в разработке безупречных версий, предназначенных для Эдварда Бейза, хотя сама она считала подобные упражнения ненужными и терпеть их не могла (всегда мрачнела в момент прощания, ускоренного из-за моей настойчивости). Она была беззаботна, и легкомысленна, и смешлива, и забывчива; на месте Эдварда Бейза – так полагал я в ту пору – мне бы не пришлось мучиться и ломать себе голову, чтобы выведать все ее мысли и все ее похождения. Но я не был Эдвардом Бейзом; а был бы, то, возможно, все дела и намерения Клер Бейз были бы для меня скрыты непроницаемой тьмой. Возможно, не захотел бы знать или довольствовался бы домыслами. Как бы то ни было, именно мне приходилось всё приводить в порядок после ее пылкого вторжения и почти выталкивать ее из моего пирамидального дома (каждый этаж уже предыдущего) либо из гостиницы, где мы сняли номер, а то и уклоняться от ее внезапной навязчивости в последний момент (ей так обидно, что этот отрезок времени вот-вот кончится) и умерять ее неустрашимость, когда я отваживался наведаться к ней в отсутствие Эдварда Бейза. (Адюльтер – ситуация трудоемкая.)
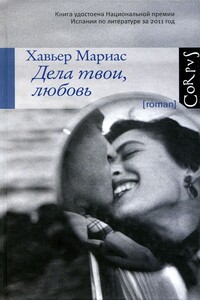
Хавьер Мариас — современный испанский писатель, литературовед, переводчик, член Испанской академии наук. Его книги переведены на десятки языков (по-русски выходили романы «Белое сердце», «В час битвы завтра вспомни обо мне» и «Все души») и удостоены крупнейших международных и национальных литературных наград. Так, лишь в 2011 году он получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, а его последнему роману «Дела твои, любовь» была присуждена Национальная премия Испании по литературе, от которой X.

Великолепный стилист Хавьер Мариас создает паутину повествования, напоминающую прозу М. Пруста. Но герои его — наши современники, а значит, и события более жестоки. Главный герой случайно узнает о страшном прошлом своего отца. Готов ли он простить, имеет ли право порицать?…

Тонкий психолог и великолепный стилист Хавьер Мариас не перестает удивлять критиков и читателей.Чужая смерть ирреальна, она – театральное действо. Можно умереть в борделе в одних носках или утром в ванной с одной щекой в мыле. И это будет комедия. Или погибнуть на дуэли, зажимая руками простреленный живот. Тогда это будет драма. Или ночью, когда домашние спят и видят тебя во сне – еще живым. И тогда это будет роман, который вам предстоит прочесть. Мариас ведет свой репортаж из оркестровой ямы «Театра смерти», он находится между зрителем и сценой.На руках у главного героя умирает женщина, ее малолетний сын остается в квартире один.
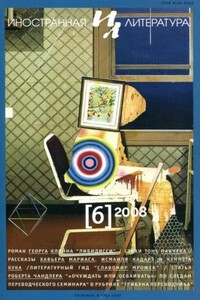
Рассказ "Разбитый бинокль" ("Prismáticos rotos") взят из сборника "Когда я был мертвым" ("Cuando fui mortal", Madrid: Alfaguara, 1998), рассказы "И настоящее, и прошлое…" ("Serán nostalgias") и "Песня лорда Рендалла" ("La canción de lord Rendall") — из сборника "Пока они спят" ("Mientras ellas duermen", Madrid: Alfaguara, 2000).

Сначала мы живем. Затем мы умираем. А что потом, неужели все по новой? А что, если у нас не одна попытка прожить жизнь, а десять тысяч? Десять тысяч попыток, чтобы понять, как же на самом деле жить правильно, постичь мудрость и стать совершенством. У Майло уже было 9995 шансов, и осталось всего пять, чтобы заслужить свое место в бесконечности вселенной. Но все, чего хочет Майло, – навсегда упасть в объятия Смерти (соблазнительной и длинноволосой). Или Сюзи, как он ее называет. Представляете, Смерть является причиной для жизни? И у Майло получится добиться своего, если он разгадает великую космическую головоломку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.