Все души - [5]
Я начисто забыл ее лицо, помню только цветовую гамму (золотистый цвет, голубой, розовый, белый, алый); но знаю, что из всех женщин, встреченных мною в пору молодости, она произвела на меня самое сильное впечатление, хотя от меня не ускользает, что такого рода определение, согласно традициям, действующим и в литературе, и в жизни, может относиться лишь к тем женщинам, с которыми мужчине в пору молодости так и не удается познакомиться. И не помню, как я завязал разговор и о чем мы говорили в те жалкие полчаса, которые занимает путь от Дидкота до Оксфорда и его вокзалов. Может, и разговора-то не было, просто перебросились тремя-четырьмя бессвязными фразами. Зато помню, что она, хотя уже не студентка, была еще очень молода, а потому и не бог весть как элегантна; и помню, что на ней был плащ с открытым воротом, позволявшим разглядеть жемчужины ожерелья (подделка или настоящий жемчуг – не знаю, не разбираюсь); такие ожерелья, по сравнительно недавней моде, те из английских девушек, которые следили за собой, считали необходимым носить даже тогда, когда в других отношениях наряд их мог быть самым непритязательным или явно далеким от совершенства (она-то как раз была одета аккуратно, но не элегантно). Еще мне помнится, что прической – короткая гривка – и чертами лица, теперь уже забывшимися, она показалась мне женщиной из тридцатых годов. Может статься, Уилл, привратник, видел всех женщин такими в те дни, когда пребывал в тридцатых. Как бы то ни было, несколько слов, которыми мы перебросились, были слишком безличны, а потому я не смог ничего о ней узнать. Может быть, светлые глаза ее сомкнулись от усталости, и я не отважился нарушить ее дремоту. Может быть, в течение всего получасового пути мне так хотелось глядеть на нее, что желание заглушило и любопытство, и предприимчивость. А может быть, мы говорили только о Дидкоте, об унылой и холодной станции, оставшейся позади; но и ей и мне еще придется туда вернуться. Она вышла в Оксфорде, но я не подготовил почву: даже не предложил отвезти ее в такси, которое взял.
По всем этим причинам в течение десятка последовавших дней я исходил весь город Оксфорд с намерением, а точней в бессознательной надежде, встретить ее, что не было так уж невыполнимо, если она жила здесь, а не приехала в гости. Я провел на улицах еще больше времени, чем обычно, и с каждым днем лицо ее все больше стиралось у меня из памяти или смешивалось с другими, как и случается со всем тем, что хочешь вспомнить, упрямо стараешься вспомнить; как случается со всеми образами, с которыми память не обращается почтительно (то есть пассивно). Так что неудивительно, что теперь мне не припомнить ее черт – незаконченный портрет, контуры очерчены, однако краски еще не наложены, только выбраны цвета, но это всего лишь мазки на палитре, – хотя я наверняка увидел ее во второй раз, думаю, что и в третий, а может быть, даже и в четвертый. Но в тот раз, когда увидел наверняка – через десять дней, – все произошло очень быстро, да к тому же день был ветреный. Я выходил из книжной лавки Блэкуэлла, и у меня оставалось времени меньше чем в обрез, чтобы успеть к началу занятия по переводу в обществе придиры Дьюэра. Я ускорил шаг, в лицо мне хлестал ветер, поднявшийся, пока я рылся в лавке Блэкуэлла. Шагов через двадцать, проходя мимо Тринити-колледжа, я чуть не налетел на двух женщин, – они тоже шли очень быстро, наклоняя голову, чтобы уберечь лицо от ветра. Только пройдя еще четыре-пять шагов, притом спиною к ним, я узнал ее и повернул назад. Больше всего поразило меня то обстоятельство, что она и ее товарка, тоже успевшие сделать четыре-пять шагов, остановились в тот же миг и повернулись ко мне лицом. Мы увидели друг друга по-настоящему на расстоянии в восемь-десять шагов. Она улыбнулась и прокричала, больше для того чтобы я ее узнал, а не потому что сама меня узнала: «В поезде! В Дидкоте!» С минуту я колебался – подойти, не подойти, – но пока я колебался, товарка дернула ее за рукав и потянула за собой. Юбка ее развевалась на ветру, и короткая гривка тоже. Помню эти подробности, потому что в то мгновение, когда она остановилась на Брод-стрит и крикнула: «В поезде! В Дидкоте!», она одной рукой придерживала волосы, отводя их со лба, а другой – юбку, вздувавшуюся от ветра. «В поезде! В Дидкоте!» – повторил я в знак того, что узнал ее (полы моего темно-синего пальто шлепали меня по ногам); но злонамеренная и явно торопившаяся товарка, лица которой я не разглядел, уже уводила ее в направлении, противоположном тому, которым спешно должен был следовать я, держа курс на Тейлоровский центр, где ждал меня Дьюэр. И вот так, наверняка, мне больше не удалось ее увидеть ни в том учебном году, ни в следующем, по истечении которого я расстался с Оксфордом, хотя и не для того – еще не для того, – чтобы окончательно возвратиться в Мадрид, что теперь-то я уже сделал. Больше всего сожалею, что в этот, второй, раз мне не удалось разглядеть получше ее английские туфли и ее щиколотки, но, может быть, они снова показались бы более хрупкими, чем на самом деле, на этот раз из-за ветра. Я слишком внимательно следил за несмелым взлетом ее юбки.
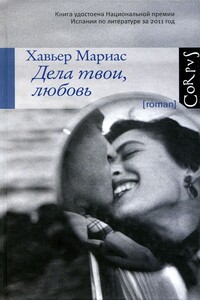
Хавьер Мариас — современный испанский писатель, литературовед, переводчик, член Испанской академии наук. Его книги переведены на десятки языков (по-русски выходили романы «Белое сердце», «В час битвы завтра вспомни обо мне» и «Все души») и удостоены крупнейших международных и национальных литературных наград. Так, лишь в 2011 году он получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, а его последнему роману «Дела твои, любовь» была присуждена Национальная премия Испании по литературе, от которой X.

Великолепный стилист Хавьер Мариас создает паутину повествования, напоминающую прозу М. Пруста. Но герои его — наши современники, а значит, и события более жестоки. Главный герой случайно узнает о страшном прошлом своего отца. Готов ли он простить, имеет ли право порицать?…

Тонкий психолог и великолепный стилист Хавьер Мариас не перестает удивлять критиков и читателей.Чужая смерть ирреальна, она – театральное действо. Можно умереть в борделе в одних носках или утром в ванной с одной щекой в мыле. И это будет комедия. Или погибнуть на дуэли, зажимая руками простреленный живот. Тогда это будет драма. Или ночью, когда домашние спят и видят тебя во сне – еще живым. И тогда это будет роман, который вам предстоит прочесть. Мариас ведет свой репортаж из оркестровой ямы «Театра смерти», он находится между зрителем и сценой.На руках у главного героя умирает женщина, ее малолетний сын остается в квартире один.
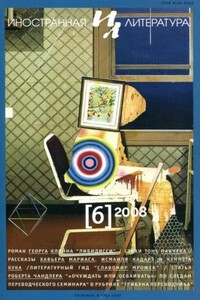
Рассказ "Разбитый бинокль" ("Prismáticos rotos") взят из сборника "Когда я был мертвым" ("Cuando fui mortal", Madrid: Alfaguara, 1998), рассказы "И настоящее, и прошлое…" ("Serán nostalgias") и "Песня лорда Рендалла" ("La canción de lord Rendall") — из сборника "Пока они спят" ("Mientras ellas duermen", Madrid: Alfaguara, 2000).

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.