Все души - [24]
– У Клер Бейз есть любовники? – выговорил я, и, сказать по правде, выговорил без всякой подготовки – вырвалось помимо воли.
– Что? – сказал Кромер-Блейк. – Да. Нет. Не знаю.
Когда ты один, когда живешь один, да к тому же за границей, мусорное ведро становится для тебя объектом самого пристального внимания, потому что этот предмет может стать единственным, с которым ты поддерживаешь постоянную связь, и при этом, что еще существенней, связь непрерывную. Каждый пластиковый мешок, черный, новый, блестящий, гладкий, готовый к употреблению, производит впечатление абсолютной чистоты и бесконечных возможностей. Когда вечером вкладываешь его в ведро, словно обещаешь или готовишь себе встречу с новым днем: чего только не произойдет. Этот мешок и это ведро иногда единственные свидетели того, что случится за день с единственным человеком, живущим в доме; в мусорном ведре скапливаются отбросы, отходы, отвергнутые человеком следы его дня, все, что он обрек на небытие, решил не оставлять себе, весь брак: остатки того, что было съедено, выпито, выкурено, что было использовано, куплено, сделано собственными руками либо попало человеку в руки еще каким-то образом. К концу дня мешок, ведро полны, все внутри перемешалось, но ты видел, как содержимое мешка увеличивается в объеме, меняет форму, становится какой-то неразложимой мешаниной; однако не только человек может объяснить, почему и в каком порядке образовалась эта мешанина, но и мешанина сама по себе, при всей своей неразложимости, оказывается и упорядоченностью, и объяснением человека. Мешок и ведро – доказательства того, что данный день существовал реально, и он материализовался в эту мешанину, и он немного другой по сравнению с предыдущим днем и по сравнению со следующим, хотя и такой же, как они, по однообразию и так же, как они, составляет связующее звено между предыдущим и последующим. И эта мешанина – единственное вещественное доказательство, удостоверяющее со всей непреложностью реальное существование этого человека во времени; и она же – единственное произведение, которое этот человек реально создал. Это нить жизни, а также ее счетчик. Всякий раз, когда подходишь к ведру и что-то туда швыряешь, снова видишь все выброшенное в предшествовавшие часы, и это дает человеку ощущение непрерывности: день его размечен походами к мусорному ведру; там он увидит коробочку от фруктового йогурта, которым позавтракал, и пачку из-под сигарет – под утро осталось только две, и конверты, доставленные почтой, теперь пустые и разорванные, и жестянки от кока-колы, и стружки от карандаша, очинённого перед началом работы (хотя затем ты писал пером), скомканные страницы, забракованные из-за погрешностей либо ошибок, целлофановая оболочка, содержавшая в прошлом три сэндвича, окурки, которые ты многократно высыпал из разных пепельниц, ватные тампоны, смоченные одеколоном, – ими ты освежал себе лоб, – жир от холодных закусок, которые ты рассеяно съел за письменным столом, чтобы не отрываться от работы, фольга, ненужные извещения, полученные на факультете, листик петрушки, листик базилика, осколки неведомо чего, обрезки ногтей, потемневшая кожура груши, картонка от молока, пустой флакончик из-под лекарства, английские сумки из шероховатой неотбеленной бумаги, в которые букинисты кладут проданные книги. И все это вталкивается в ведро, и спрессовывается, и слипается, и упаковывается и таким образом превращается в осязаемый отпечаток – материальный, прочный – рисунка дней жизни какого-то человека. Свить верхнюю часть мешка в жгут, и завязать этот жгут, и вынести на улицу значит спрессовать и объявить завершенной дневную страду, каковая, возможно, была размечена всего лишь этими действиями: выкинуть отходы и очистки – действие, избавиться от чего-то лишнего – действие, выбрать что-то – действие, распознать ненужное – действие. Результат распознавания – вот это произведение, и оно само предписывает собственное завершение: когда ведро переполнено, произведение закончено, и тогда – но только тогда – его содержимое – мусор.
Я начал ежедневно приглядываться к мусорному ведру и к метаморфозам его содержимого примерно год спустя после описанного ужина, когда по разным причинам, о которых расскажу в другом месте, стал встречаться с Клер Бейз реже, чем мне бы хотелось (и никем ее не заменил), а моя работа в Оксфорде сделалась еще менее обременительной, чем раньше, если это возможно (впрочем, допускаю, что выполнял я ее все более и более автоматически). Я жил в еще большем одиночестве и в еще большей праздности, чем прежде, а этап открытий давно миновал. Но еще раньше, с самого начала, я стал обращать особое внимание на мусорное ведро в конце недели, потому что, действительно, воскресенья в Англии – не просто нудные и чахлые воскресенья, как повсюду, время, которое надо прожить, ступая на цыпочках, не обращая ни на что внимания и не привлекая оного; нет, английские воскресенья – изгнанники из бесконечности, кажется, это слова Бодлера. В течение остальных дней недели, при необременительности моих обязанностей, у меня было больше развлечений, и одно из них, которое в этом городе всегда наготове (может превратиться в основное для тех, кто к нему пристрастится), состоит в поисках книг, уже отсутствующих в продаже, старинных, редких, рассчитанных на чудаковатых или чокнутых собирателей. Для любителей такого рода лавки букинистов в Англии – пропыленный и укромный рай, куда вдобавок наведываются самые изысканные джентльмены королевства. Многочисленность и разнообразие таких лавок, несметные богатства их фондов, частое обновление наличествующего товара, невозможность когда-либо исследовать до конца все, что в закромах, скромный по размерам, но мощный и живой рынок, который эти лавки представляют, – все это превращает их в территории, неизменно дарующие находки и награды. За два года охоты и изысканий мне в персты (защищенные от пыли перчатками) попали уникальные драгоценности, и притом за бесценок, например все семнадцать томов первого и единственного полного собрания сказок «Тысячи и одной ночи» в издании сэра Ричарда Френсиса Бертона (более известного среди букинистов как Кэптен Бертон), которое печаталось более века назад ограниченным тиражом в тысячу пронумерованных экземпляров каждого тома только для подписчиков Бертоновского клуба – без права переиздания, разумеется, и внесения дополнений, что и было соблюдено: действительно, этот полнокровный текст Викторианской эпохи никогда не переиздавался полностью, публиковались только избранные сказки либо выходили незаконные издания, откуда, хоть они и притязали на полноту текста, были изъяты все места, которые в те времена считались – или которые жена Бертона сочла – непристойными. Охотник за книгами обречен специализироваться на тех, которые для него – самая вожделенная добыча, ее он вынюхивает с особым усердием, а в то же время неизбежно становится всеядным и легко поддается соблазну, по мере того как им завладевает неуемный вирус собирательства. Так произошло в моем случае, и наряду с тем, что любопытство мое ширилось и распространялось на новые объекты, набралось пять-шесть авторов, которых я решил превратить в постоянную и наиглавнейшую цель моих поисков, причем остановил свой выбор именно на них не столько из желания прочесть их книги и стать обладателем этих книг, сколько потому, что найти их было очень трудно. То были второстепенные авторы, странные, неудачливые, забытые либо так и не оцененные, известные немногим и никогда не переиздающиеся даже у себя на родине; из них наиболее известным и наименее второстепенным (но куда более знаменитым в нашей стране, чем в своей собственной) был уроженец Уэльса Артур Мейчен, этот странный писатель, мастер изысканного стиля и утонченных ужасов, который во время опроса, проведенного среди пятидесяти британских литераторов во время нашей Гражданской войны
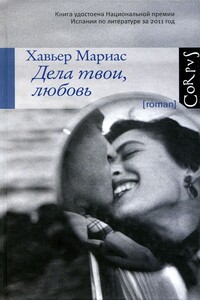
Хавьер Мариас — современный испанский писатель, литературовед, переводчик, член Испанской академии наук. Его книги переведены на десятки языков (по-русски выходили романы «Белое сердце», «В час битвы завтра вспомни обо мне» и «Все души») и удостоены крупнейших международных и национальных литературных наград. Так, лишь в 2011 году он получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе, а его последнему роману «Дела твои, любовь» была присуждена Национальная премия Испании по литературе, от которой X.

Великолепный стилист Хавьер Мариас создает паутину повествования, напоминающую прозу М. Пруста. Но герои его — наши современники, а значит, и события более жестоки. Главный герой случайно узнает о страшном прошлом своего отца. Готов ли он простить, имеет ли право порицать?…

Тонкий психолог и великолепный стилист Хавьер Мариас не перестает удивлять критиков и читателей.Чужая смерть ирреальна, она – театральное действо. Можно умереть в борделе в одних носках или утром в ванной с одной щекой в мыле. И это будет комедия. Или погибнуть на дуэли, зажимая руками простреленный живот. Тогда это будет драма. Или ночью, когда домашние спят и видят тебя во сне – еще живым. И тогда это будет роман, который вам предстоит прочесть. Мариас ведет свой репортаж из оркестровой ямы «Театра смерти», он находится между зрителем и сценой.На руках у главного героя умирает женщина, ее малолетний сын остается в квартире один.
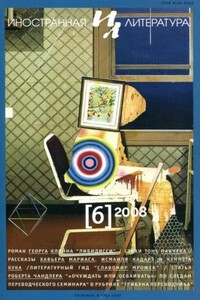
Рассказ "Разбитый бинокль" ("Prismáticos rotos") взят из сборника "Когда я был мертвым" ("Cuando fui mortal", Madrid: Alfaguara, 1998), рассказы "И настоящее, и прошлое…" ("Serán nostalgias") и "Песня лорда Рендалла" ("La canción de lord Rendall") — из сборника "Пока они спят" ("Mientras ellas duermen", Madrid: Alfaguara, 2000).

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.