Время ноль - [3]
Ну и последнее, что мне известно:
Глаза у неё, у мамы, были: когда в избе, в тени, или когда погода пасмурная – как дождевые капли, серые, когда на улице, на солнце где – как небо, голубые, – так изменялись. А волосы – как прелая солома, светло-русые, богатые – густые.
И:
«Тятенька был крутой, горячий, вспыхчивый, как порох, но отходчивый – его надолго не хватало. А мама – спокойная, степенная, голоса никогда ни на кого не повышала, но слушались мы её и повиновались ей беспрекословно».
Ну вот.
Живу сейчас и чувствую (оговорюсь: именно чувствую – не понимаю): люблю я её, бабушку свою по матери, Настасью Абросимовну, хоть никогда её и не видел – даже на фотографии, которые в семье имелись, как рассказывали, но не сохранились: не до жиру было, быть бы живу, какие уж там фотокарточки, себя бы еле-еле протащить мимо погибели, между смертями, кого родного ли сберечь, – люблю так. Как и Россию – будто и похоже: ведь и её, Родину свою, толком тоже всю не обозрел, не разузнал и не прослушал – не республика Сан-Марино, слава Богу, в пятьдесят девять квадратных километров – пешком за сутки можно пересечь, с высокой ёлки всю увидеть, – против которой ничего я не имею, разумеется, и там кто-то, в тесноте такой, родился и живёт, пожалеть только. Как и китайцев. Как и японцев. Мало ли. Иных тоже жалко – где население-то редко. Люблю. Я про Россию. Любовью странною. Рассудку с ней, конечно, не управиться, не победить. Но только надо ли? Зачем всегда всё побеждать? Чему-то и покориться иногда можно с радостью, поддаться. Любишь и любишь, слава тебе Господи. Без этого-то как? Пусть и скудельные сосуды мы, но ведь не камни. И камни жалко – так страдают: полежи-ка столько на одном боку.
И всех сродников, от веку… И другую мою бабушку, что – по отцу. Авдотью Миколаевну. С той-то однажды всё же я встречался – ночи две у нас, была проездом, ночевала, – смутно, но припоминаю: крупная, молчаливая, в платке, повязаном по-русски, – сидит на стуле, как на троне фараоновском, прямо, осанисто, ладони на коленях, смотрит на меня внимательно, как в будущее или в прошлое, как в объектив ли, – словно для памяти моей сфотографироваться согласилась. Сфотографировалась – нет-нет да и посмотрю на снимок – всматриваюсь. И дедушку моего по отцовской линии, Павла Григорьевича, мужа Авдотьи Николаевны. Старик сухой, плечистый был и строгий – так вот тогда мне показалось, – повелительный, глядел на всех, как коршун с высокой лесины, но не надменно и не зло, а отстранённо – был уже где-то, а не с нами. Того мне тоже довелось раз только в жизни, к сожалению, увидеть, за месяц, за два, может, до его кончины: отец возил меня к нему – проститься – с ним, с тем, фамилию которого ношу – Истомин-то. Но здесь:
Созвездие уже другое.
Синица на окне. С уличной стороны. В оконный переплёт вцепилась коготками – как в сердце. Висела боком, теперь – вниз головой. Ей всё равно, хоть так, хоть эдак, кажется. Как Гераклиту. Стекло старательно поклёвывает. Что-то там её обманывает – привлекло же. Может, отблеск. Может, собственное отражение. Клюв ли, как об оселок, поправляет. Наклевалась. Улетела. Берёза в палисаднике – на ней теперь мельтешит, невеличка, и не одна она там – несколько их, горстка, с ветки на ветку перескакивают, юркие; рано берёза наша нынче – из-за заморозков крепких – оголилась. К дому дорожка жёлтая от листьев; и мураву ими, листьями павшими, распятнало – как веснушками – грустно. Иней на всём лежал, уже растаял, и обсохло, только где тень, там ещё волгло.
– К худому, – говорит мать.
– Что? – спрашиваю, хотя и понимаю, о чём речь.
– Да птица-то… когда в окошко.
– Да уж, – говорю. И думаю: «Ничего в ней синего, и вдруг синица».
– Всё так.
– Но ведь она не ломится, не бьётся.
– И чё что…
– Это, мама, суеверие.
– Не знаю… Господь сильный: тихо знаки подаёт. К кому относится, тот услышит… А суеверие, нет ли, я, не грамотная-то, не знаю… Редко когда в Господа напрямую веришь, всё через чё-то… определи-ка.
– К зиме холодной, может быть… вот и к худому.
– И это тоже.
Бабье лето. Именовал же кто-то. Ведь не назвали же: зима мужицкая. Но пусть. А в декабре да в январе-то – и мужицкая. Отвлёкся.
Ельник вокруг Ялани – густой, вечнозелёный, разрежен кое-где багряным: рябинами, осинами или бояркой – будто поранился, и кровь на нём, на ельнике-то, проступила – осень.
Один – на ветке обнажённой
Трепещет запоздалый лист!.. – то и дело вспыхивает в уме, как зарницы среди тёмной августовской ночи, то пережитое, то прочитанное – от личной памяти до родовой… до общечеловеческой.
Небо голубое. Ни облака на нём. Как океан во время штиля. Только следы от турбореактивных самолётов: один с запада на восток, другой с юга на север. Ветер, видно, в поднебесье – напирает: полчаса ещё назад крест был прямой, ровно вписанный в круг, нахлебный, поменялся, смотрю, на андреевский – цвет вот только наизнанку. Дивишься.
Ночью, конечно, уже холодно – вода в бочке возле дома под поточным желобом к утру замерзает, чтобы достать её ведром или ковшиком, лёд проламывать пешнёй, топором или колотушкой надо – коростой плотной нарастает; воробью клювом не продолбить, кошке лапой не проломать… вороне разве, с её
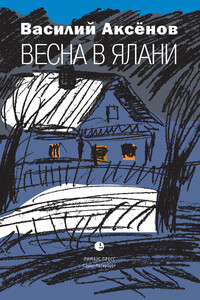
Герой нового романа Василия Ивановича Аксёнова, как и герои предыдущих его романов, живёт в далёком сибирском селе Ялань. Он неказист и косноязычен, хотя его внутренняя речь выдаёт в нём природного философа. «Думает Коля складнее и быстрее, чем ходит и говорит…» Именно через эту «складность» и разворачиваются перед читателем пространство, время, таёжные пейзажи, судьбы других персонажей и в итоге – связь всего со всем. Потому что книга эта прежде всего о том, что человек невероятен – за одну секунду с ним происходит бездна превращений.
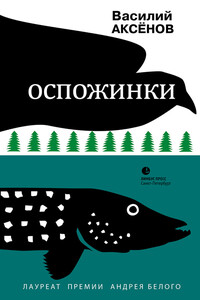
Так сложилось, что в эту раннюю осень Иван Васильевич Войсковой приехал к матери в Сретенск, что под сибирской Яланью – то ли просто навестить родное гнездо, то ли отрешиться от городской суеты, то ли по иной причине. Разве поймешь сразу, когда и жаловаться на жизнь вроде не принято, а на вопрос «Как дела?» в ответ слышишь немногословное «Нормально». И вроде обычные деревенские заботы. И река Кемь та же. И Камень никуда не делся. Но что в таежной глуши может связать Сибирь и Сербию? Не только буква «с»… И почему Сретенск вдруг стал местом, в котором, будто по провидению Божьему, а в аксеновском мире по-другому и не бывает, произошла эта странная встреча?
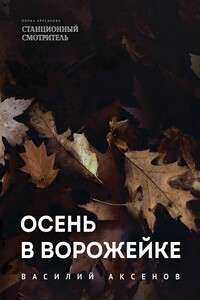
Это история о том, что человек невероятен. С ним за секунду бытия происходит бездна превращений. Каждая клеточка, входящая в состав человека, живая. Среди русских писателей имя В. Аксёнова стоит особняком. Сюжеты его прозы, казалось бы, напрямую соотносятся с деревенской тематикой, герои его произведений — «простые люди» из глубинки, — но он не «писатель-деревенщик». Проза Аксёнова сродни литературе «потока сознания», двигает героем во всех его подчас весьма драматичных перипетиях — искра Божия.
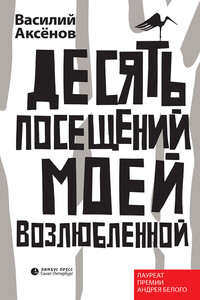
Василий Иванович Аксёнов обладает удивительным писательским даром: он заставляет настолько сопереживать написанному, что читатель, закрывая книгу, не сразу возвращается в реальность – ему приходится делать усилие, чтобы вынырнуть из зеленого таежного моря, где разворачивается действие романа, и заново ощутить ход времени. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители – слова одного корня, а любовь – главное содержание жизни, и она никогда не кончается.Роман «Десять посещений моей возлюбленной» стал лауреатом премии журнала «Москва» за лучшую публикацию года, а в театре им.
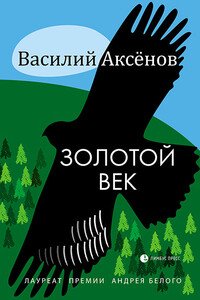
Сборник рассказов и повестей «Золотой век» возвращает читателя в мир далёкой сибирской Ялани, уже знакомой ему по романам Василия Ивановича Аксёнова «Десять посещений моей возлюбленной», «Весна в Ялани», «Оспожинки», «Была бы дочь Анастасия» и другим. Этот сборник по сути – тоже роман, связанный местом действия и переходящими из рассказа в рассказ героями, роман о незабываемой поре детства, в которую всякому хочется если и не возвратиться, то хоть на минутку заглянуть.
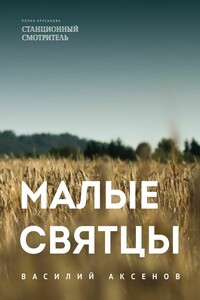
О чем эта книга? О проходящем и исчезающем времени, на которое нанизаны жизнь и смерть, радости и тревоги будней, постижение героем окружающего мира и переполняющее его переживание полноты бытия. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители — слова одного корня, а вера и любовь — главное содержание жизни, и они никогда не кончаются.
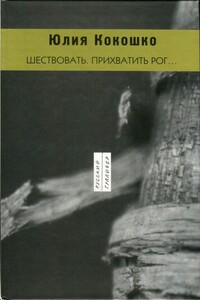
Дорога присутствует едва ли не в каждом повествовании екатеринбургской писательницы, лауреата литературных премий, Юлии Кокошко, чьи персонажи куда-то идут, шествуют, бредут, спешат. Неровности дороги и неровный ход времени — вот сквозные темы творчества тонкого стилиста, мастера метафоры, умеющего превратить прозу в высокую поэзию, — и наполнить гротеском, и заметить эфемерные, но не случайные образы быстротекущей жизни.
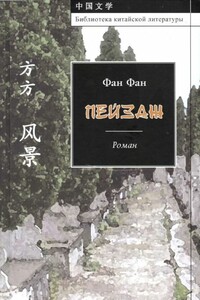
Небольшой роман «Пейзаж», изданный в 1987 г., стал переломным произведением в судьбе китайской писательницы Фан Фан. В центре повествования — семья простого рабочего, живущая в нищете, а «рассказчик» — один из детей этой семьи, умерший в младенчестве и похороненный под окном родного дома. Яркое и живое изображение жизни городских трущоб, глубокий философский подтекст и оригинальное повествование принесли роману премию, а Фан Фан стала символом китайского неореализма. Произведения, последовавшие за «Пейзажем», закрепили за Фан Фан статус писательницы первой величины и сделали её лауреатом ряда престижных премий, в том числе крупнейшей литературной награды КНР — премии Лу Синя. Роман «Пейзаж», принесший писательнице национальную известность, посвящён жизни огромного мегаполиса Ухань в течение полувека: с 1930-х до середины 1980-х годов.
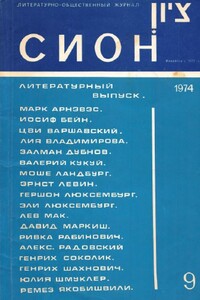
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
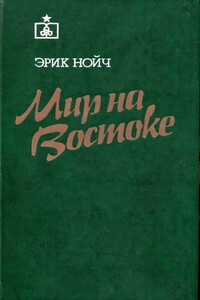
С начала 70-х годов известный писатель ГДР Эрик Нойч работает над циклом романов «Мир на Востоке», который должен воссоздать путь республики от первых послевоенных лет до наших дней. В романе «Когда гаснут огни» действие развивается в переломный и драматический период конца 50-х годов. Исследуя судьбу молодого ученого, а потом журналиста Ахима Штейнхауэра, писатель без приукрашивания показывает пути самоосуществления личности при социализме, раскрывает взаимосвязи между политической и социальной ситуацией в обществе и возможностями творческого развития личности.
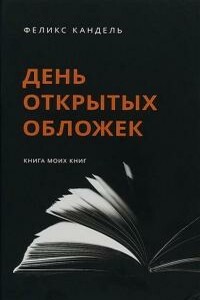
Книга эта – вне жанра. Книга эта – подобна памяти, в которой накоплены вразнобой наблюдения и ощущения, привязанности и отторжения, пережитое и содеянное. Старание мое – рассказывать подлинные истории, которые кому-то покажутся вымышленными. Вымысел не отделить от реальности. Вымысел – украшение ее, а то и наоборот. Не провести грань между ними. Загустеть бы, загустеть! Мыслью, чувством, намерением. И не ищите последовательности в этом повествовании. Такое и с нами не часто бывает, разве что день с ночью сменяются неукоснительно, приобретения с потерями.
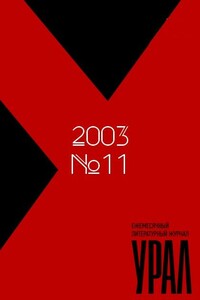
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.