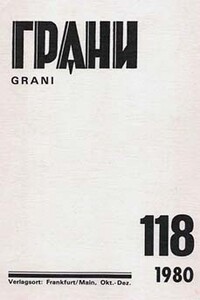Время ноль - [2]
Буду рассказывать, не стану рассуждать – слово тут моё потерпит неудачу, ниже окажется предмета Всё же вот вспомнилось. Современник моего прадеда, камер-юнкер, оберпрокурор Синода, князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов уложил за свою жизнь двести двенадцать медведей, 212, и нужды особой у него в этом вроде не было – не в Петербурге же, гуляя в парке или на службу следуя в карете, он встречался с ними. Хотя… Бывает всякое, конечно.
И что ещё вот.
В дверях уже, когда от дочери в предсмертный час свой уходил, не оглядываясь – по примете, чтобы не отказать себе в доброй дороге, – нахлобучивая заяч-чю шапку на голову, обронил через плечо Абросим Иванович: «Образ-то на божнице у тебя, Настасся… Спаситель косо чё-то смотрит». – «Да нет, тятя, – ответила ему дочь. – Это изба, а не Спаситель… угол подгнил, осел, и повело чуть». – «Как-то поправить, поди, можно… подложить ли чё, подвинуть… Изба-то пусть… для Господа бочком-то…» – «Ладно, тятя, сёдни же поправим». – «Да уж поправьте… то не дело». Это его последние слова при жизни. Разве что с Богом ещё перемолвился, с ней ли – со смертью. Там, на колоде-то, но кто то слышал.
Детей своих она, Настасья Абросимовна, называла – как они, дети её, вспоминают – так обычно: Вассонька-матушка, Ванюшка-батюшка, Алёна-матушка, ну и наперечёт – трое батюшек и восемь матушек – обилие такое. Было, конечно. Изводится. Зато потомства-то – не пресеклось – изрядно, как звёзд на небе, чуть разве меньше.
«Из всех из нас больше всего – и обличьем, и фигурой, и выговором – схожа с мамой наша Нюра… Вылитая… Да и характером. Уж уродилась». Анна Дмитриевна. Плисовская по мужу. Тётя моя, которую все мы, её многочисленные племянники и племянницы, с радостью называем тётя Аня. Сказал: тётя Аня – и на душе посветлело – что-то хорошее как будто сделал. Жива пока, и слава Богу. В уме ещё – да и в хорошем – рассудительная. Верует. Добрее человека – есть-то они, может, и есть, куда же им и подеваться, есть, конечно, но мне – встречать так близко вот не доводилось; скрыть её трудно, доброту-то, – не денежка, просквозит, хоть и укроешь, как клад, не утаишь. А мне она, тётя Аня, так иногда при встрече говорит, приглядываясь ко мне по старости пристально, в даль туманную будто, – и не глазами уже, кажется, а как-то по-другому: «Шибко уж ты сшибашь, родной, на нашего-то тятеньку, на деда». Куда тут денешься – сшибаю.
И всё почти. К стыду своему и печали. Ничего больше про Анастасию Амвросиевну я не знаю. Только то ещё, вдобавок вот, что муж её законный, дед мой, Дмитрий Истихорыч, тятенька, пришёл как-то утром рано, по росе, домой от полюбомницы, встретил жену свою венчаную Настасью, бабушку мою, в ограде около колодца, вырвал из рук у неё коромысло и отходил её им – за то, что молча обошлась, в укор ему и слова не сказала, как не заметила, – после этого оглохла бабушка, хошь колокол церковный об неё разбей – такой невосприимчивой после побоев к звукам посторонним сделалась, глухой, как стенка, сошла и в могилу. Но там, в могиле, тишина, позвоночником да затылком внимать, может, и есть чему – нутру земному, например, – но слушать нечего особенно, а у души свой слух, свои уши, и то, что следует услышать ей, она услышит – так мне думается. От любви необыкновенной и требовательной он, Дмитрий Исти-хорыч, так поступил, от ненависти ли, обуявшей его и ослепившей вдруг на ту минуту, мне не догадаться. От безразличия бы так не сделал, точно – есть по кому судить здесь – по себе. Что в своём сердце после этого носил он, дедушка, ума не приложу. Но вот детей своих и пальцем никогда не трогал тятенька, за провинность, для острастки, опояской или верхонкой легонько иногда пониже поясницы шлёпал лишь, а ругался только так: «Ух, ты, огнёва, ох, каналья» – наши никто не сквернословил, грязноязыких не водилось. Правда. И я таких, охальников, среди родственников своих не припомню. Если имелись бы, так не забылись бы – такой контраст-то.
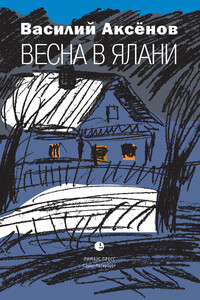
Герой нового романа Василия Ивановича Аксёнова, как и герои предыдущих его романов, живёт в далёком сибирском селе Ялань. Он неказист и косноязычен, хотя его внутренняя речь выдаёт в нём природного философа. «Думает Коля складнее и быстрее, чем ходит и говорит…» Именно через эту «складность» и разворачиваются перед читателем пространство, время, таёжные пейзажи, судьбы других персонажей и в итоге – связь всего со всем. Потому что книга эта прежде всего о том, что человек невероятен – за одну секунду с ним происходит бездна превращений.
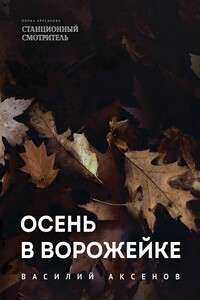
Это история о том, что человек невероятен. С ним за секунду бытия происходит бездна превращений. Каждая клеточка, входящая в состав человека, живая. Среди русских писателей имя В. Аксёнова стоит особняком. Сюжеты его прозы, казалось бы, напрямую соотносятся с деревенской тематикой, герои его произведений — «простые люди» из глубинки, — но он не «писатель-деревенщик». Проза Аксёнова сродни литературе «потока сознания», двигает героем во всех его подчас весьма драматичных перипетиях — искра Божия.
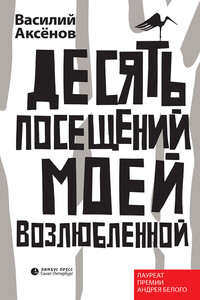
Василий Иванович Аксёнов обладает удивительным писательским даром: он заставляет настолько сопереживать написанному, что читатель, закрывая книгу, не сразу возвращается в реальность – ему приходится делать усилие, чтобы вынырнуть из зеленого таежного моря, где разворачивается действие романа, и заново ощутить ход времени. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители – слова одного корня, а любовь – главное содержание жизни, и она никогда не кончается.Роман «Десять посещений моей возлюбленной» стал лауреатом премии журнала «Москва» за лучшую публикацию года, а в театре им.
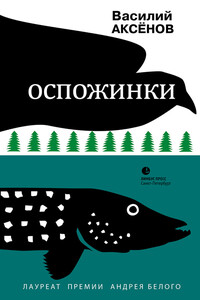
Так сложилось, что в эту раннюю осень Иван Васильевич Войсковой приехал к матери в Сретенск, что под сибирской Яланью – то ли просто навестить родное гнездо, то ли отрешиться от городской суеты, то ли по иной причине. Разве поймешь сразу, когда и жаловаться на жизнь вроде не принято, а на вопрос «Как дела?» в ответ слышишь немногословное «Нормально». И вроде обычные деревенские заботы. И река Кемь та же. И Камень никуда не делся. Но что в таежной глуши может связать Сибирь и Сербию? Не только буква «с»… И почему Сретенск вдруг стал местом, в котором, будто по провидению Божьему, а в аксеновском мире по-другому и не бывает, произошла эта странная встреча?
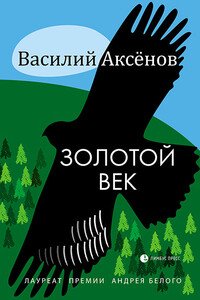
Сборник рассказов и повестей «Золотой век» возвращает читателя в мир далёкой сибирской Ялани, уже знакомой ему по романам Василия Ивановича Аксёнова «Десять посещений моей возлюбленной», «Весна в Ялани», «Оспожинки», «Была бы дочь Анастасия» и другим. Этот сборник по сути – тоже роман, связанный местом действия и переходящими из рассказа в рассказ героями, роман о незабываемой поре детства, в которую всякому хочется если и не возвратиться, то хоть на минутку заглянуть.
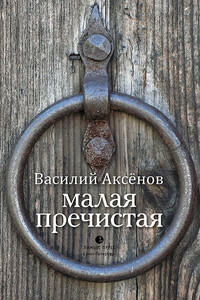
Рассказы из нового сборника «Малая Пречистая», как и большинство других книг Василия Ивановича Аксёнова («Оспожинки», «Время ноль», «Десять посещений моей возлюбленной»), погружают читателя в мир далёкой сибирской Ялани. Действие рассказов зачастую не совпадает по времени, но все они связаны между собой местом действия и сквозными персонажами, благодаря чему книга обретает черты единого повествования, с которым не хочется расставаться даже после того, как перевёрнута последняя страница.
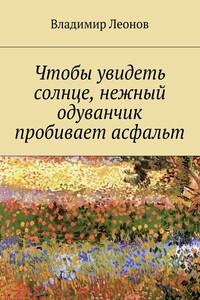
Книга написана человеком, который прошел путь от нищеты до процветания, познал и суму, и забвение. Психологическое осмысление прожитой жизни под знаком: «Важно, что в человеке, а не у человека». Рекомендуется всем, кто мечтает прожить жизнь счастливо и радостно, быть конкурентным и конъюктурным в век прагматизма.

Это пятый сборник прозы Максима Осипова. В него вошли новые произведения разных жанров: эссе, три рассказа, повесть и драматический монолог – все они сочинены в новейшее время (2014–2017 гг.), когда политика стала активно вторгаться в повседневную жизнь. В каком бы жанре ни писал Осипов, и на каком бы пространстве ни разворачивались события (Европа, русские столицы, провинция), более всего автора интересует современный человек с его ожиданиями и страхами. Главное, что роднит персонажей Осипова, – это состояние одиночества, иногда мучительное, но нередко и продуктивное.Максим Осипов – лауреат нескольких литературных премий.
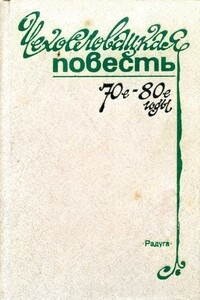
Сборник знакомит с творчеством известных современных чешских и словацких прозаиков. Ян Костргун («Сбор винограда») исследует морально-этические проблемы нынешней чешской деревни. Своеобразная «производственная хроника» Любомира Фельдека («Ван Стипхоут») рассказывает о становлении молодого журналиста, редактора заводской многотиражки. Повесть Вали Стибловой («Скальпель, пожалуйста!») посвящена жизни врачей. Владо Беднар («Коза») в сатирической форме повествует о трагикомических приключениях «звезды» кино и телеэкрана.Утверждение высоких принципов социалистической морали, борьба с мещанством и лицемерием — таково основное содержание сборника.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История о жизни, о Вере, о любви и немножко о Чуде. Если вы его ждёте, оно обязательно придёт! Вернее, прилетит - на волшебных радужных крыльях. Потому что бывает и такая работа - делать людей счастливыми. И ведь получается!:)Обложка Тани AnSa.Текст не полностью.