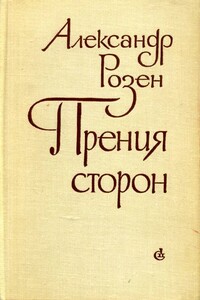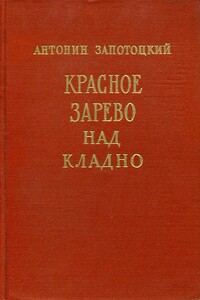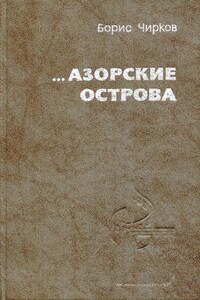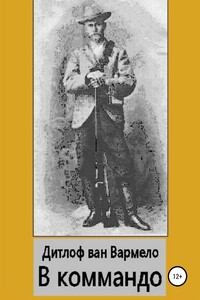До боли знакомая дорога. До боли знакомый холм. Давно обуглившиеся руины обсерватории, особенно выделявшиеся своей чернотой в летний, медленно гаснувший вечер.
Полтора года я не был здесь. В самом начале наступления наших войск на Пулковской высоте был наблюдательный пункт командира корпуса, Николая Павловича Симоняка. На второй день наступления я поднялся наверх по траншее, ладно обшитой досками, но увидел только несколько бойцов, сматывающих связь, да молоденькую сестричку с небольшим баулом в руках.
— Что вы, генерал уже далеко!
Теперь, через полтора года после январских событий, после Победы, накануне возвращения ленинградской гвардии, мне так захотелось снова увидеть прошлое, что я попросил водителя ненадолго остановить машину и по старой развалившейся траншее, через частокол предупредительных надписей: «Мин нет! Мин нет!» пошел наверх.
— Как близко… — сказал один зарубежный астроном, глядя на Ленинград.
Да, близко, очень близко, в ясный день Ленинград отлично виден отсюда. Пулково — это почти Ленинград, всего несколько автобусных остановок…
Но расстояние от Пулкова до Ленинграда нельзя измерить ни километрами, ни автобусными остановками. История по-своему промерила это расстояние девятисотдневной борьбой, впервые фашизм был остановлен здесь, здесь он дрогнул, и здесь его разгромили.
Верно, что Ставка и Говоров замечательно выбрали Пулково для решающего удара, но этот выбор подсказан не одной только военной наукой. Для Ставки и для Говорова Пулково было не только «главенствующей высотой», выбор Пулкова подсказан историей, самая искусная рука не может быть равнодушна к тому чувству, которое владеет армией, если, конечно, это армия народа, а не армия наемников. Бородино, Сталинград, Пулково никогда не перестанут изучать в военных академиях, но они уже давно перестали быть только названиями славных битв, а стали понятиями, равными понятиям — народ, победа, бессмертие.
Сколько раз за эти годы я поднимался сюда только для того, чтобы послушать пулковский ветер, шумящий старыми и новыми былями. На склоне холма, обращенного к Ленинграду, спят вечным сном герои Сорок пятой — Волков и Бойцов, их могилы рядом, сюда приходят и ветераны, и молодые солдаты, родившиеся спустя десять лет после гибели Волкова и Бойцова. Они служат срочную в том же самом полку, и я недавно ездил в этот полк на учение и познакомился с ними и с командиром полка подполковником Бурлаковым, которому исполнилось девять лет в день гибели Волкова и Бойцова.
В тот вечер, когда я остановил машину возле разбитой траншеи и поднялся наверх, я не мог представить себе ни возрождения из пепла Пулковской обсерватории, ни цветов, принесенных пионерской дружиной имени Галстяна, ни тридцатисемилетнего командира полка, в котором служил Волков, ни генерала, профессора, доктора военных наук Александра Ивановича Матвеева. В то время я еще жил войной. Война приходит быстро, уходит медленно, пушки уже замолкли, а человек еще долго слышит их тяжелый гул. С волнением смотрел я на военные высоты Ленинграда: Исаакий, Адмиралтейство, Петропавловка, Смольный… Вся жизнь впереди! Какая она будет, эта жизнь, и каким буду я? И какой будет моя книга о пережитом?
И вот книга написана. Мне жаль расставаться с ней. Мне все время кажется, что я чего-то недосказал, наверное так оно и есть, нельзя без потерь рассказать о пережитом, даже когда говоришь с другом…
Все той же разбитой траншеей я спустился вниз. Я, конечно, был виноват, задержав машину, но бывают дни, которые решают судьбу литератора.
Водитель встретил меня недовольно. Он вышел из кабины, достал большой гаечный ключ и демонстративно стал постукивать по скатам.
— Не надеюсь я на эту резину, — сказал он. — Да и задний мост барахлит, ехали вроде ничего, а как стали, так и расчихалась. Ну, давайте, может и доедем, здесь недалеко.