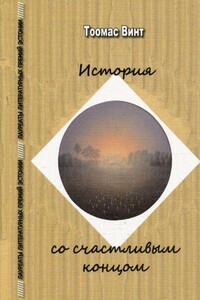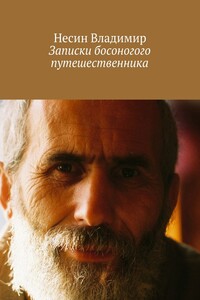Жена ложится рядом с ним, гасит лампу, секунды молчания кажутся минутами, минуты — часами. Ему хочется спросить, где была жена и почему пришла так поздно, но жена ничего не спросила о его путешествии, и раз так, то его расспросы были бы и вовсе смехотворными; в конце концов, не в силах больше переносить молчание, а может, вызванную им тягостную напряженность, он спрашивает, где дети; жена объясняет, но он и не слушает: на языке вертится новый вопрос, не дающий ему покоя, и он как-то неловко и поспешно осведомляется, что она сказала детям, когда они вернулись из пионерского лагеря и не нашли его дома. Жена отвечает: дети, мол, знают, что ему надо было уехать по делам службы, на этом их разговор исчерпывается; под одеялом нестерпимо жарко, мелькающий свет неоновой рекламы время от времени расцвечивает белый потолок комнаты.
— Тебе это было надо, — неожиданно мягко говорит жена. Это не вопрос, это скорее вслух произнесенный ответ самой себе — утверждение, признание того, что путешествие действительно было ему необходимо. Он молчит, ему кажется, что жена какая-то другая, гораздо лучше, чем он представлял ее себе, но затем думает, что это он стал другим, что в течение тех немногих дней, когда он тосковал, мучился одиночеством, размышлял, ловя рыбу на берегу озера, о человеческих взаимоотношениях, сомневался в выборе жизненного пути, видел смерть постороннего для него человека, испытал печаль, радость, восхищение и даже растерянность перед прекрасным на первый взгляд устройством мира — что в течение всего этого времени, которое было коротким и вместе с тем неизмеримо длинным, в нем произошла какая-то перемена, и он уже не может жить с теми мыслями, которые казались ему такими привычными в этой квартире. Он мог бы сказать все это жене, но беспомощно молчал, точно набрал в рот воды, и, возможно, эти слова никогда бы не сорвались с его губ, если б жена неожиданно не прижалась к нему и не прошептала, как она скучала и как ей не хватало его.