Возвращение старого варана - [22]
Какое-то время я только сопел от ярости – в основном из-за глубокомысленного «мало того», – прежде чем смог что-то сказать. Я тебе покажу «мало того», австралийская образина.
– Быть может, это и дешево – утверждать, что ночью все черно, быть может, это и не требует усилий, но зато сколько усилий надо приложить, дурачок ты этакий, чтобы оказаться в той самой ночи, ведь она не приходит сама по себе и к кому попало, а кроме того, ночь абсолюта, раз уж тебе угодно так ее называть, – это не пассивное замыкание в себе, предусматривающее непересечение границ своего «я», это посвященность, позволяющая нам коснуться целого, в котором и заключается смысл всех отдельных частей, целого, о котором люди и кенгуру обычно забывают среди мозаики дня, эта посвященность не заканчивается утром, ее сияние через границы ночи освещает и день, эта посвященность являет собой горизонт, который объединяет все отличительное; не будь такого горизонта, отличительное бы утратило всякий смысл и растворилось в тупой механистической партикулярности.
Кенгуру не терял спокойствия, его явно забавляло то, что я вышел из себя. Когда я закончил, он насмешливо сказал:
– Хе-хе-хе, значит, ты воображаешь себя поэтом, который в долгую священную ночь переходит из страны в страну и дает имена являющимся ему богам. Где ты живешь, по-твоему? В Тюбингене, в закрытой монастырской школе? Оглядись-ка вокруг, дружище, в этой ночи нет ничего священного. Ты считаешь доносящиеся из тьмы шорохи зарождающимися мелодиями некой новой универсальной симфонии, но в действительности это всего только негромко побулькивает хаос. Тебе надо еще многое осознать. Если хочешь, когда-нибудь я тебе все объясню.
– Новое всегда зарождается из хаоса, и сперва его мелодия неотличима от звуков распада и сумбура. В этом смысле хаос тоже священен, если уж использовать твою возвышенную терминологию. Впрочем, кенгуру такие тонкости недоступны.
– Может, повесишься, дружище? – рассмеялся кенгуру. – Раз уж, по-твоему, все вокруг священно, так какая разница, что именно ты сделаешь: самоубийство тоже может считаться священным актом.
– Набить тебе морду – вот что такое, по-моему, священный акт. И еще, что это за треп о гуманизме и любви? Об этом можешь болтать в своей Австралии. Откуда тебе знать о моем отношении к любви?
– Не поверишь, но сейчас я встречаюсь с девушкой, которая по воле случая когда-то была и твоей подругой. Она мне о тебе такое порассказала – мы с ней чуть не лопнули от смеха. В Сиднее я развлекаю историями о тебе каждого встречного, и все просто в восторге. Она, бедняжка, до сих пор от тебя не оправилась, нелегко мне было расшевелить ее хоть капельку. Еще она все время говорит, как счастлива, что мы с ней встретились, что я совсем не похож на тебя, что только со мной она по-настоящему начала жить. Она говорит, что я более нежный и заботливый, что я не такой гадкий, как ты. И в сексуальном плане я ей лучше подхожу. Она ужасно меня любит. Она связала мне эту вот шапочку для хвоста. – И он победоносно и радостно замахал хвостом в шапочке так, что покачнулся в воздухе; пришлось ему, быстро размахивая короткими передними лапками, вновь обретать равновесие. – Держу пари, что тебе она ничего такого не вязала! – ликующе выкрикнул он. Его недавнего спокойствия как не бывало.
– Да как же она могла связать мне шапочку для хвоста, если я не кенгуру, болван! – проорал я.
Однако кенгуру в эйфории размахивал хвостом и радостно вопил:
– Он не кенгуру, ха-ха-ха, у него нет шапочки! Он блуждает в долгой священной ночи, и у него нет шапочки! Все кенгуру черные, ура! Все кенгуру смертны, Шеллинг – кенгуру, значит, Шеллинг смертен! Гип-гип, кто из нас спустится первым?
И он принялся толкать меня лапкой, непрестанно гогоча как сумасшедший и выкрикивая теперь уже только отдельные слова: «Абсолют!», «Шапочка!», «Коровы!», «Шеллинг!»; при каждом слове он лупил меня хвостом в шапочке по спине. Я двинул его локтем, кенгуру закачался и некоторое время судорожно махал лапами в воздухе, чтобы вернуть себе равновесие, при этом он то и дело фыркал от смеха, а потом стукнул меня лапой так, что я чуть сознание не потерял, – теперь уже мне пришлось размахивать руками, чтобы удержать равновесие, я пнул его, a oн огрел меня одновременно хвостом по ногам и лапой по голове. Мимо летел киви на лыжах в полосатой шапочке и восторженно кричал тоненьким голоском: «Дай ему, кенгуру, врежь хорошенько!» Потом он исчез в тумане. Надеюсь, страусы тут не летают, подумалось мне.
Так мы пинали и лупили друг друга, пока не устали; потом мы просто летели рядом и тяжело дышали, причем кенгуру тихонько усмехался. Ему и самому было уже неловко, и он напускал на себя серьезный вид, но затем не выдерживал и прыскал от смеха. Скоро он стал спускаться, потому что был тяжелее, и наконец исчез в тумане; я летел один, не догадываясь, куда приземлюсь, я надеялся, что опущусь на берег холодного моря, моря, из-за которого меня высмеял кенгуру. Но тут слева в тумане показалась гладкая стеклянная стена какого-то здания, я протянул руку и коснулся кончиками пальцев холодного стекла. За окнами были конторы, освещенные лампочками, я увидел женщину, которая склонилась над пишущей машинкой. Мне пришло в голову, что это здание «Стройимпорта» в Праге на Ольшанах. И в самом деле, когда я спустился еще ниже, то увидел, что лечу над заснеженным Виноградским проспектом. Кривая моего полета совпадала с кривой улицы, идущей под уклон, так что я довольно долго летел на высоте одного метра над тротуаром. Люди шли с работы с портфелями и сумками, они равнодушно расступались передо мной, как будто полет в метре над землей был на Виноградском проспекте делом совершенно обычным; только одна пожилая женщина в шубе, которую я нечаянно задел, крикнула мне вслед: «Поосторожнее, хулиган!» По дороге я разглядывал витрины и изучал репертуар кинотеатров. В окне букинистического магазина я увидел своего бывшего однокурсника, который там работал, – он в задумчивости сидел за кассой, я постучал в стекло, но, прежде чем он успел поднять голову, я был уже далеко. На грязный снег я свалился прямо возле здания радио, а завершил свое путешествие изящным кульбитом у овощного магазина на углу. Передо мной в тумане высился Национальный музей, подобный унылому заколдованному замку.
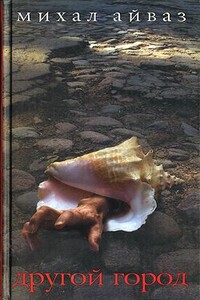
Михал Айваз – современный чешский прозаик, поэт, философ, специалист по творчеству Борхеса. Его называют наследником традиций Борхеса, Лавкрафта, Кафки и Майринка. Современный мир у Айваза ненадежен и зыбок; сквозь тонкую завесу зримого на каждом шагу проступает что-то иное – прекрасное или ужасное, но неизменно странное.Антикварная книга с загадочными письменами, попавшая в руки герою, не дает ему покоя… И вот однажды случайный библиотекарь раскрывает ее секрет. Книга с этими текстами принадлежит чужому миру, что находится рядом с нашим, но попасть в который не только непросто, но и опасно…
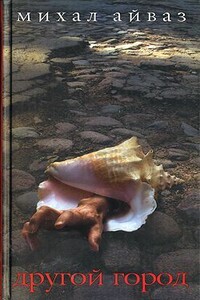
Михал Айваз – современный чешский прозаик, поэт, философ, специалист по творчеству Борхеса. Его называют наследником традиций Борхеса, Лавкрафта, Кафки и Майринка. Современный мир у Айваза ненадежен и зыбок; сквозь тонкую завесу зримого на каждом шагу проступает что-то иное – прекрасное или ужасное, но неизменно странное.
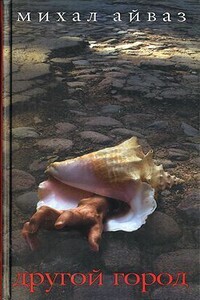
Михал Айваз – современный чешский прозаик, поэт, философ, специалист по творчеству Борхеса. Его называют наследником традиций Борхеса, Лавкрафта, Кафки и Майринка. Современный мир у Айваза ненадежен и зыбок; сквозь тонкую завесу зримого на каждом шагу проступает что-то иное – прекрасное или ужасное, но неизменно странное.
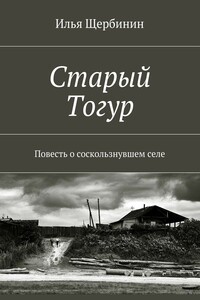
Есть много в России тайных мест, наполненных чудодейственными свойствами. Но что случится, если одно из таких мест исчезнет навсегда? История о падении метеорита, тайных озерах и жизни в деревне двух друзей — Сашки и Ильи. О первом подростковом опыте переживания смерти близкого человека.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

