Возвращение корнета. Поездка на святки - [65]
— Задремал, сирота? — спросил вдруг мужик.
— Bitte, veratehe nicht, — отозвался Подберезкин, весь сразу напрягаясь.
— А ты не маши головой. Это я промеж себя говорю, у нас только с собой и поговорить можно, с чужими упаси Бог. Да вот разве что с тобой — немым.
— Bitte? — повторил Подберезкин.
— Ляжи, ляжи, знай! — проговорил мужик. — Смотрю я на тебя — и всё мне старина вспоминается. Ну точь-точь ты барин старый, Подберезкин, царствие ему небесное, как старики говорили, только что помоложе да без бороды. А то совсем одна обличья.
Подберезкин едва не прянул с криком — до того неожиданны были эти слова, но мужик смотрел уже на сторону, говорил задумчиво, точно сам для себя:
— Хороший был хозяин, племенных жеребчиков разводил, после перебили всех товарищи. Человек был степенный. Помню, к отцу в избу заходил, не гордился, руку подаст: как живешь, Миколай Ефремович? Это мой отец так звался. Квасу выпьет, «хороший, скажет, у тебя квас». Никого не облаял на своем веку, не то, что теперь начальство с совхозу: что ни слово, то лай да матюк.
Он опять посмотрел на Подберезкина, как бы ожидая ответа. И корнету мучительно хотелось отозваться, поговорить с этим человеком, знавшим его отца, по-настоящему поговорить о России, о своих местах — за двадцать лет представлялся первый раз такой случай. Невыносимо было притворяться чужим, не сметь понимать родного языка. Но кто был этот мужик?.. Он напрягал память.
— Русской речи не понимаешь, — продолжал мужик, — а говорю: жизнь была хорошая, не верю, что и была. Тугие пошли теперь времена. Разорили Россию, как раз дунули, дивлюсь я, как могло такое быть. Вы вот, немцы, пришли, народ надеялся — может теперь мужикам землю воротят. Не могу я без своей земли, живу, что в чужом краю потерянный. Я ее, землю-то, больше бабы миловал, холил, гладил. Бабу-то свою и бивал, один раз по спине кнутовищем вытянул, а на землю руки не подымал. Дурного слова земле не сказал. А вы, немцы, вышло, совсем глупый народ. Россию под себя поставить хотели — слыханное ли дело! Всё пожгли, пограбили, народ угнали — что татары. Вон у меня и избы не осталось. Ночевать негде. Я на тебя не злоблюсь. Никc гут война, — продолжал он, обращаясь к Подберезкину. — Твоя дела тоже подневольная. А теперь вот Семухину достался. Мать сердцем о молитве проси. Нет сильней материной молитвы. Со дна моря вызволит.
Этот мужик принадлежал той России, что знал и любил корнет, и он чувствовал себя здесь тоже как в чужом краю. Откуда, кто он был, как его звали? Подберезкин вглядывался в лицо мужика, стараясь сообразить, кем он мог быть? Кто из ребят, что помнил он из тех времен, мог обратиться в этого мужика? Никто подходящий, однако, не отыскивался; очевидно происходил он из одной из соседних деревень. Так и тянуло спросить: жив ли тот или этот; с трудом корнет хранил молчание.
Над озером широким косяком потянули гуси, покружившись над водой, стали снижаться.
— Ах, добыча хороша была бы, — сказал мужик.
И не успел он кончить, как рядом звучно хлопнули два выстрела и одна птица тяжело упала в воду. И сразу же из барака выскочил командир и закричал:
— В чем дело? Кто стрелял?
— А гуся добыл, товарищ командир, на ужин, — отвечал молодой партизан от другого костра, снявший рубаху и стаскивающий сапоги. — Теперь плыть надо, такая мать, бр…. студено.
— А я тебя за такую забаву посажу под арест. Как смел стрелять в лагере — устава не знаешь?
— Да что, товарищ полковник, жалко добро отпутать. Птицу как рукой снял. Прикажете сплавать, аль пускай пропадает.
Командир ничего не ответил; взгляд его упал на Подберезкина.
— Это что? Под стражу! Стуков! — закричал он. Поднялся молодой партизан, — Отведешь в землянку и встанешь на посту. Уйдет — голову сниму.
В землянке были устроены нары, на них лежала солома, еще недавно здесь, видно, спали. В полуоткрытую дверь Подберезкин видел ветви ольшанника, чуть качавшиеся на ветру, и сквозь них дальше озеро, как кипящее золото. Он привалился и услышал, что кто-то шлепнулся в воду под гогот партизан и поплыл, сильно ударяя ногами.
— Васька, — кричал чей-то голос, — оборвут раки гузно, что девки скажут!
И невольно вспомнились подобные сцены из гражданской войны. Скоро всё стихло, и он заснул.
XIV
После пленения прошло три дня, а Подберезкина по-прежнему не опрашивали, никуда не вызывали, совсем не тревожили. Для видимости его держали под стражей, да и то только ночью: днем же выпускали, он почти беспрепятственно ходил по лагерю. Все дни он проводил, сидя под солнцем на берегу, наблюдая, как партизаны ловили неводами рыбу, по горло заходя в воду, переругиваясь для смеха; ловилось много окуней, подъязков, мелкой щуки; каждый день к обеду и к ужину варили в котлах уху и, как и в первый вечер, наливали котелок Подберезкину; давали и хлеба. На берегу оставался он часами, наслаждаясь светом, теплом, покоем, совсем забывая про войну, про свое положение, думая о родных местах, о знакомых, оставшихся здесь, о Леше, иногда о Наташе. Лишь изредка, как стрела, пронзала мысль о плене, о необходимости бежать, но пока апатии преодолеть он не мог.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
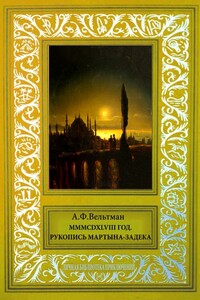
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
