Возвращение корнета. Поездка на святки - [63]
Корнет лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом, и различал голоса уже не смотря.
— Ишь пленный-то заснул, — раздался близко голос Никифора, и сквозь ресницы Подберезкин увидел, что все на него смотрели. — Офицером будет — видно по мундиру и по обличию. Погибшая его дела — либо Семухин кончит, либо в тылу голодом помрет. На советских харчах немец долго не протянет.
— А чего лез? — отозвался парень в шинели постарше, судя по голосу, без злобы, лениво — просто слова подвернулись на язык.
— Их тоже, брат, не спрашивают. А человек, видно, ученый, не нашим чета, — мужик кивнул головой по направлению барака. — У нас такие-то офицеры были в ту войну, ученые, как полагается, не то, что теперь — мужик мужиком. Войска без офицера — что без головы. Да беда, говорят, коль голова худа. Я и то не пойму: мужики вот мы, а ученых немцев гоним. Только что валом и берем. Войны ждали, что праздника, а вот она что получилась.
— Заграницей дураков-то тоже подходяще. А кто оборет — известно дело: жидова…
— Как бы тебя, дядя, за такие-то слова в ящик не сыграли, — сказал другой из парней в шинели.
— А что, неправда?
— Правда, парень, была, да быльем поросла, — отозвался Никифор. — Правды нонче не ищи. Думай да терпи — вот и вся наука. Что было, то забыли. Раньше я всё мозговал, правды искал. А теперь себе урок положил — велят, делаю, сполняю, а ответа не беру — ни перед Богом, ни перед людьми. Много греха в миру. Забыли люди, что по Божьему веленью и подобию сотворены, вся разгадка тут.
— Бога, друг, давно в расход вывели, — отозвался тот же парень и так же лениво, без всякого убеждения.
— Вот то-то и есть, что вывели. А что осталось — дикое поле. Всё измяли, сравняли. А отцы говорили: без Бога ни до порога. Без Бога страшный становится человек.
Подберезкин прислушивался с волнением к словам Никифора, узнавая в нем старого русского крестьянина, говорившего всегда своей собственной, особенной речью, того русского крестьянина, о котором он столь часто вспоминал в Европе, где ему всегда казалось, что всеобщая грамотность и радио еще не культура. Культура это — память о Боге — казалось ему. У Екклезиаста стояло: «Начало премудрости есть страх Господень». Этот русский мужик, дикарь на европейский взгляд, был, вероятно, ближе к мудрости мира, чем средний европеец с его радио и автомобилем. Впрочем, уже до революции таких крестьян, как Никифор, становилось всё меньше и меньше.
— Я тоже так, папаша, думаю, — вступился молодой белокурый парень, — насмотрелся я делов, — вижу: не можут одни люди мирно промежду собой жить. Одна смерть кругом, смерть да обман. Он тебя, а ты его. А кто виноват — не уразумею. А чую, можно бы по-другому. Смотрю, гляжу на звезды — обмирает душа: до чего хорошо можно жить на свете. А вот боюсь — побьют и не узнаю, что из себя жизнь была.
— Смерти не бойся, грехов, худого бойся.
— Третьего дни, — продолжал парень рассказывать, не обращаясь ни к кому, как будто самому себе, — ходили мы с Семухиным на разведку, как знаете, до соседнего села; ну, пробираемся обратно до лагеря, по опушке идем. День — не день, а песня, всё тебе поет — солнышко, птицы, лес. Только далече где-то легкие орудия бьют, такая мать… так сердце и обливается — почто жить мешают, песне жизни? Ползем по опушке, зараз я вижу — немец, часовой, у сосны приткнулся, ружье рядом стоит. Я — Семухину, а он поотстал — знак: аккуратней, мол, не шабарши, а сам дивлюсь: как немец нас не заслышал? И вижу — спит! Ружье к сосне поставил, ворот мундера расстегнул, куфайку приоткрыл, пригрело солнцем — и спит, как дитя малое. По уставу учили: либо бить немца, либо в плен, а я не могу — спящий человек, как спящего обидеть? Один так бы и ушел, оставил немца — пускай досыпает, а Семухин — что с него взять, ишь орет! — как подкрадется, гадюка, мне и опомниться не дал, штык прямо в грудь всадил, тот и не пискнул. Живьем, понятно, нельзя было взять — закричит, деревня занятая близко; стрелять — тоже услышат, одно — штык. Семухин его живо и обкарнал: куфайку снял, на себя оболок, сапоги стащил, перевязал, за спину себе бросил, карманы обшарил и дале пополз. Мне даже слова не сказал. И я дурак дураком остался. Мой был немец, а Семухину достался. Остался я один, смотрю — был человек и нету человека, как спал, так и не проснулся. А глаза открытые — страх! Никак не могу понять, что это такое. После всех этих делов совсем как чумной хожу. Себе не рад. Кушаю, а ровно кто чужой, не я, кушает. Плохой я солдат.
— Смерть да жена — Богом суждена. А спящего человека бить это точно, что дитя малое обидеть. А с него, что спросишь. Семухину, говорю, война — что мила жена. Совести ни на грош. Бей да водку пей, грабь да бабу лапь. Вот и вся наука.
У того костра запели, но песне мешал пьяными выкриками Семухин и другой пьяный голос. Там от них хотели, видно, отвязаться; было слышно, как уговаривали Семухина лечь спать; а тот всё заявлял громко, что пойдет в село за бабами и за самогоном. В конце концов он действительно поднялся и, неверно ставя ноги, пошел; заметив по пути сидящих у другого костра, повернул к ним. Подойдя, он вдруг разглядел Подберезкина, открыл в изумлении рот, пошарил по боку рукой, ища, видимо, оружия, и завопил:
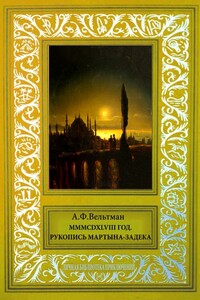
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
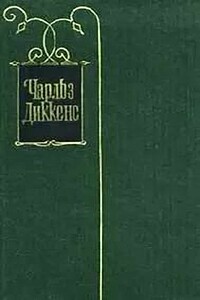
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
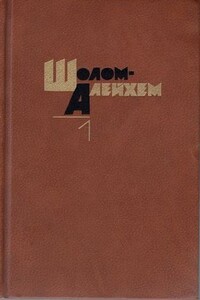
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
