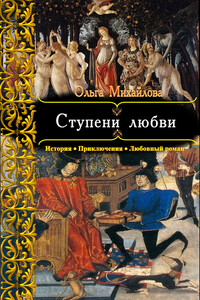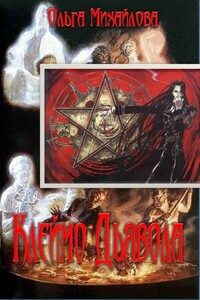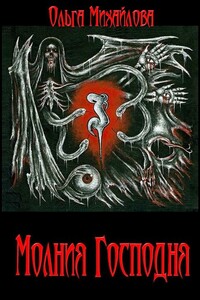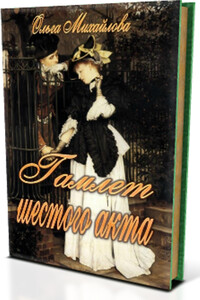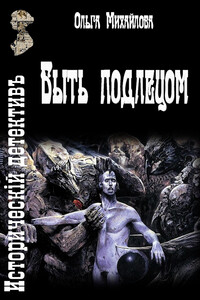Подобного рода фантазии свойственны человеку, но если этот человек относится к власть предержащим, он склонен осуществлять свои грёзы. Тем более что ничего нереального в мечтах мессира Пандольфо не было. Он вообще-то был прагматиком. Все это, да, разумеется, требовало умелой работы, тщательной подготовки и некоторых затрат, но не более того.
Приказ действовать подеста Пасквале Корсиньяно получил от него четверть часа спустя.
Далее мессиру Пандольфо потребовался совет человека непредубежденного и разумного. Он вызвал Антонио да Венафро и посвятил его в свои планы. Вопросов же к Венафро было два. Первый. Судить ли предателя по статье «Наказание измены», параграф СХХIV или «Наказание тех, кто учинит народный бунт», параграф СХХVII? Антонио да Венафро поискал в своей памяти. Параграф СХХIV гласил: «Тот, кто злоумышленно учинит измену, должен быть, согласно обычаю, подвергнут смертной казни путем четвертования. В том случае, когда измена могла причинить великий ущерб и соблазн, например, если измена касается города, то возможно усугубить наказание путем волочения к месту казни или терзания клещами перед смертной казнью, а некоторых же случаях измены можно сперва обезглавить, а затем четвертовать преступника». Параграф СХХVII был милосерднее. «Если кто-либо в городе или владении умышленно учинит опасный бунт простого народа против власти и это будет обнаружено, то он будет подлежать казни путем отсечения головы или сечению розгами и изгнанию из страны, где он возбудил бунт».
— В смысле четвертовать или обезглавить? — спросил Венафро, ни минуты не сомневаясь, что об изгнании речь не идёт.
— Да.
— Обезглавить — проще, четвертовать — зрелищней.
Пандольфо кивнул. Да, он и сам так думал. Стало быть, параграф СХХIV.
— И второе. Лучше надеть на торжества зелёный плащ с золотым позументом или скромный чёрный, отделанный по воротнику серебром? — Пандольфо вообще-то оговорился, сказав «торжества», поскольку иная ошибка бывает откровенней любой правды, но Венафро этого не заметил, понимая, что втайне Пандольфо и вправду видит в падении Марескотти празднество.
Советник напряжённо потёр рукой лоб. Вопрос Петруччи был непростым.
— Вас уже видели и в том и в другом, — после долгого раздумья проронил он, — нужно заказать к этому дню новый, алый плащ, украшенный золотой цепью с геральдическими знаками льва и креста, как символами высшей власти в Сиене.
Глаза Пандольфо блеснули. Он увидел это своим мысленным взором и кивнул.
— Да, ты прав. Так и поступим.
Пандольфо не прогадал. Престиж и авторитет власти подлинно взлетели на невиданную высоту, едва в городе распространились слухи об аресте Фабио Марескотти. Надо сказать, что бунт гарнизона не наделал в городе много шума, его назвали «мятежом испанской малаги», и то, что именно он послужил причиной опалы и ареста Фабио Марескотти, многих даже удивило. Суд прошёл быстро, Пандольфо Петруччи в таких случаях не допускал волокиты. Приговор же не просто порадовал горожан, а привел их в такое ликование, что в день казни капитану народа не пришлось нанимать клаку — горожане славили его криками даром и даже под ноги ему бросали цветы. Удивительно прекрасное было зрелище. Прошедший в городе праздник намного превзошёл мечты Пандольфо и породил нём некоторые новые мысли: «Не стоит ли ежегодно вылавливать пару высокопоставленных супостатов и публично казнить их, если уж это так поднимает престиж власти?»
Для этого дня соорудили не только эшафот, но и обитое плюшем возвышение с козырьком от дождя и солнца, с которого глава синьории был виден издали. Пандольфо Петруччи в алом плаще, окруженный пышной свитой, с удовольствием взирал на казнь и восторги толпы. Приближенные же капитана народа толпились за его спиной и боязливо наблюдали за работой палача. Все они были тихи и сумрачны, а мессир Арминелли к тому же вял и бледен, он всё ещё боялся заходить в студиоло. Только один человек не жался за спиной Петруччи. Мессир Камилло Тонди с неизменным Бариле стоял у края помоста и не сводил глаз с казнимого, словно пытаясь запечатлеть в памяти каждый миг казни, записав его после в городские анналы.
На казнь временщика сошёлся весь город, каждый сиенец считал своим долгом полюбоваться на то, как проходит земная слава, как жалок и ничтожен ныне тот, кто ещё вчера почитал себя вправе творить, что вздумается, чьи люди чинили разбой и на которых не было управы. Что же, они были правы, слава земная быстропроходяща, и останки людей, наделавших при жизни немало шума, лежат среди могил погоста так же тихо, как и все остальные.
Альбино тоже был на площади, он стоял, не отрывая глаз от эшафота. Руки его то и дело судорожно сжимались, в глазах темнело. Сама казнь, одна из самых страшных из придуманных людьми, истомила его едва ли не больше казнимого. Негодяй, о чьей смерти Альбино не мог думать без содрогания, был столь жалок, что смягчалось любое сердце. Альбино замораживало на июньском солнце, и стоявший рядом Франческо Фантони, заметив это, накинул ему на плечи легкий плащ. Однако сам Фантони смотрел на последние минуты земного бытия мессира Марескотти пристально и сумрачно, со странной, змеящейся на губах улыбкой, и ни мгновение не отвёл глаз от плахи и палача.