Vox populi - [31]
Высказывания в пользу того, что именно устное слово обладает особой разоблачительной силой, широко тиражируются: партийные идеологи и вторящие им деятели советской литературы нередко противопоставляют содержательную амбивалентность письменных текстов искренности устной речи. Письменный текст способен ввести читателя в заблуждение — изустно это сделать сложнее. Устному слову вменяется при этом и изобличающая сила. Ограничимся здесь одним примером: в сборнике рассказов лауреатов Сталинской премии 1950 года один из его авторов — старший мастер станкостроительного завода «Красный пролетарий» Иван Тимофеевич Белов — рассказывает о своей командировке в 1938 году в США в составе делегации по приемке закупленного заводского оборудования. Оказавшись на территории завода «Мичиган-тул»? Белов и другие советские товарищи получили от администрации специальные значки, которые им рекомендовалось носить в петлице пиджака и которые, как он думал, были выпущены в «ознаменование какого-нибудь важного события» и вручены им для того, «чтобы подчеркнуть <…> уважение к советским гостям». Но не тут-то было: такое предположение, как спешит сознаться Белов, «оказалось ошибочным и наивным»: «Вскоре нам стало известно, что <…> рабочие, увидав этот „опознавательный“ знак, не должны были подходить и разговаривать с нами»[271]. На каком языке стал бы общаться мемуарист с американскими рабочими, не ясно, но он, конечно, уверен, что администрацию завода страшит сила устного слова, которое могли бы адресовать американским пролетариям их советские собратья. Американо-европейской «дипломатии грамот» и в этом случае противостоит русский обычай «ссылаться речами».
В предельном выражении классовое взаимопонимание достигается без слов — для этого достаточно непосредственного общения. Атрибутами такого общения и являются самодостаточные устность и визуальная очевидность. Социально действенная коммуникация способна выразить себя без лишних слов — так, как это происходит, например, в заключительных кадрах кинофильма Г. Александрова «Цирк» (1936), где самозабвенно шагающие в физкультурном параде герои — Иван Мартынов (Сергей Столяров) и новопринятая в советский рай Марион Диксон (Любовь Орлова) обмениваются репликами, которые не требует дополнительных пояснений: «Теперь понимаешь?» — спрашивает Мартынов осчастливленную спутницу. «Теперь понимаю!» — отвечает ему Мэри.
Язык такого понимания — это, конечно, не язык слов, а язык сердца, навык политически грамотного чутья, дарующего советскому человеку не только способность верной ориентации, но и опыт своеобразного предвидения и адекватного (умо)зрения. В упоминавшемся выше сборнике рассказов стахановцев — лауреатов Сталинской премии примером такого рода может служить трудовое достижение ткачихи из Азербайджана Соны Ахмедовой, соткавшей за невиданно короткое время ковер с изображением Сталина. Портрет вождя выполнен Ахмедовой так, что создает впечатление сделанного с натуры. Заверения мастерицы, что она не видела Сталина и даже никогда не была в Москве, удивляют зрителей: «Но на этом ковре он выглядит как в жизни. Смотри, как он ласково улыбается мне, тебе, всем. Нет, дочка, ты, наверно, видела нашего дорогого отца!» Но секрет чудесного натурализма раскрывается просто. «У меня, — признается Ахмедова, — образ Сталина всегда перед глазами, я его в сердце ношу»[272]. Понятно, что перед таким аргументом отступают все сомнения: сердце видит отчетливее, чем глаз наблюдателя.
Роль шаблона в пропагандистских текстах советского времени оказывается, таким образом, достаточно нетривиальной. С одной стороны, как отмечали советские лингвисты, «монолитность советского общества определяет сходство материализации конструктивного принципа во всех наших газетах: центральные, местные, отраслевые и иные издания сближаются не только единой политической линией, общностью значительной части содержания, но и одинаковыми языковыми, изооформительскими и иными устремлениями. Сдвиги в принятых формах материализации связываются тут не с отдельными газетами, а с изменением „культурного контекста“ <…>. Различия между одной и той же газетой разных периодов оказываются существеннее, чем между разными газетами одного и того же периода»[273]. С другой стороны, содержательные особенности таких различий никоим образом не ставят под сомнение оправданность их присутствия в идеологической практике, поскольку представление о самой этой практике хотя и складывается за счет текстов, но соотносится с опытом ритуально-коллективных (т. е. акциональных по своему преимуществу, а не вербальных) действий и поступков.
Именно этими обстоятельствами можно объяснить, казалось бы, парадоксальную «забывчивость» советского общества в отношении текстов, которые были положены в идеологический фундамент этого общества, — обращение к статьям и книгам Плеханова, Троцкого, Бухарина и многих десятков других теоретиков социализма. Осуждение авторов оказалось достаточным для забвения написанных ими текстов (равно как и посмертное осуждение самого Сталина в 1956 году). Во всех этих случаях мы сталкиваемся с любопытной закономерностью: начетнически апеллируя к текстам классиков марксизма-ленинизма, советская идеология оказывается идеологией, которая, вопреки своим декларациям, в большей степени зависела не от слов, а от коллективных практик и (умо)зрительных атрибутов социального самоопознания. Порядок ритуала в этих случаях важнее, чем правильность сопутствующих ему высказываний. Аналогией такого поведения может служить, между прочим, молитвенная практика: считать себя верующим важнее, чем дословно помнить молитвы. Для религиоведа и этнографа ничего нового в самой этой ситуации нет: есть общества, где нет священных текстов, но нет таких обществ, где нет ритуалов, фетишей и коллективной традиции «образного мышления».

Джамбул — имя казахского певца-импровизатора (акына), ставшее одним из наиболее знаковых имен советской культуры конца 1930-х — начала 1950-х годов. При жизни Джамбула его сравнивали с Гомером и Руставели, Пушкиным и Шевченко, учили в школе и изучали в институтах, ему посвящали стихи и восторженные панегирики, вручались правительственные награды и ставились памятники. Между тем сам Джамбул, певший по-казахски и едва понимавший по-русски, даже если бы хотел, едва ли мог оценить те переводные — русскоязычные — тексты, которые публиковались под его именем и обеспечивали его всесоюзную славу.

Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.

Фольклористы 1920–1930-х пишут об отмирании и перерождении привычных жанров фольклора. Былина, сказка, духовный стих, обрядовая песня плохо согласуются в своем традиционном виде с прокламируемым радикализмом социальных и культурных перемен в жизни страны. В ряду жанров, обреченных на исчезновение под натиском городской культуры и коллективизации, называется и колыбельная песня.

Страх погребения заживо принято считать одной из базовых фобий человеческой психики. В медико-психиатрической литературе для его обозначения используется термин «тафофобия» (от греч. τάφος — гроб и φόβος — страх), включаемый в ряд других названий, указывающих на схожие психические расстройства — боязнь закрытого пространства (клаустрофобия), темноты (никтофобия), душных помещений (клитрофобия) и т. д. Именно поэтому с психологической точки зрения существование историй о мнимой смерти и погребении заживо не кажется удивительным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
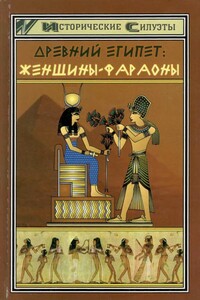
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.
