Vox populi - [20]
Инициированная Куном критика породила разноголосицу в интерпретации критериев научного согласия, но не поставила под сомнение оправданность релятивистского подхода к (реконструированию искомого согласия (и несогласия) с учетом этнографических («этнометодологических»)[161], психологических[162], социально-этических[163] и собственно риторических особенностей научной деятельности[164]. При внимании к мотивам, заставляющим людей задаваться вопросами, требующими научно специализированного разрешения, фундаментальные понятия любопытства, «поисковой активности», «стремления к новому» могут признаваться необходимыми[165], но в целом не кажутся сегодня достаточными, чтобы объяснить появление и функционирование текстов, призванных так или иначе продемонстрировать намерение их авторов быть (или называться) учеными. Отталкиваясь от рассуждений Куна, Фейерабенд не без эпатажа настаивал в свое время, что и сама история науки предстает поэтому не столько историей преемственности, сколько историей конкуренции, иллюстрирующей закономерное и вполне сознательное игнорирование учеными своих предшественников и оппонентов. Но если это так, то что делает такую историю социально опознаваемой? Как соотносится «история идей» с историей людей, составляющих то или иное научное сообщество? Освященная Максом Вебером и Эмилем Дюркгеймом социологическая интерпретация научных теорий характерно начиналась с персоналий: так, выяснялось, что радикализм теории относительности Эйнштейна созвучен радикализму его тогдашнего (маргинального) статуса в научном сообществе, а концептуальные компромиссы не менее гениального Анри Пуанкаре получают свое объяснение с учетом его административной деятельности в академически солидной иерархии[166]. История гуманитарного знания, конечно, в еще большей (или, во всяком случае, более очевидной) степени зависит от обстоятельств, которые легко счесть внешними по отношению к научному познанию, — стремления к самореализации или самообману, социальному успеху или, напротив, социальному эскапизму. Развитие естественных наук небезразлично к тем же социальным сценариям, но в отличие от гуманитариев ученые-естественники не зависят в такой мере от вненаучной оценки их деятельности. Ясно, что допущения относительно эмпирической реальности, хотя и нагружены социальным и культурным смыслом, отличаются от изучения ценностей, которые не только изначально таким смыслом наделены, но и имеют личностное отношение к самим ученым как к членам определенного общества и определенной культуры. Поэтому выработка научного согласия носит в гуманитарном знании (как справедливо отмечали в свое время Толкотт Парсонс и Норман Сторер) не столько денотативный, сколько коннотативный характер, предполагая оправдание самой логики организации гуманитарного знания, а значит, и тех социальных обстоятельств, которые делают эту организацию возможной[167].
Но как именно выстраиваются такие коннотации?
Ретроспективное описание конкурирующих (или в более вежливом словоупотреблении — сменяющих) друг друга научных парадигм не предполагает, вероятно, предметно-тематического ригоризма. Если согласиться с тем, что дюркгеймианский подход к социологии науки остается по-прежнему актуальным, то историография смены и конкуренции научных парадигм не противоречит в этом случае ни (кон)текстуальному, ни, например, поколенческому анализу. Как писал уже сам Кун (ссылаясь на так называемый «принцип Планка»), для того, чтобы наглядно убедиться в гегемонии той или иной научной парадигмы, достаточно дождаться ухода старшего поколения[168]. Применительно к истории и методологии науки подобный подход должен казаться тем менее эксцентричным, что теоретические основания для него уже подготовлены как социологическими работами, так и исследованиями в области политологии, истории литературы и искусства, осложнившими традиционное представление о поколении как способе возрастного упорядочивания жизненного цикла акцентированием символических координат социальной солидарности[169].
Опознаваемыми ориентирами социальной солидарности являются прежде всего особенности социального поведения, однако применительно к научной деятельности такие особенности могут быть выражены (и осложнены) на разных уровнях социального дискурса, которые совсем не обязательно являются содержательно и ценностно эквивалентными как в глазах самого ученого, так и его окружения. При учете этого обстоятельства не должно удивлять, что один и тот же ученый может демонстрировать такое социальное поведение, которое с трудом или вовсе не соотносится с тем, что прочитывается в его текстах. Именно о такой ситуации писал М. Л. Гаспаров, демонстрируя на примере научного творчества Ю. М. Лотмана, каким образом марксизм в теории может уживаться с теорией структурализма, но сопротивляться марксизму в идеологии[170]. Гаспаров выделяет в своем анализе несколько постулатов, предопределявших с начала 1930-х годов надлежащую методологию научных исследований. Таковы прописные истины марксизма — материализма, историзма, диалектики: «бытие определяет сознание», «культура есть следствие социально-экономических явлений», «развитие культуры, как и всего на свете, совершается в результате борьбы ее внутренних противоречий». Очевидно, что ряд этих формул может быть уточнен и классифицирован. Согласно диалектическому методу, «1) все находится в связи и взаимодействии; 2) все находится в движении и изменении; 3) количество переходит в качество; 4) противоречие ведет вперед»; философский материализм постулирует «1) признание материальности мира, признание того, что мир развивается по законам движения материи; 2) признание первичности и объективной реальности материи и вторичности сознания; 3) признание познаваемости материального мира и его закономерностей, признание объективной истинности научного знания»

Джамбул — имя казахского певца-импровизатора (акына), ставшее одним из наиболее знаковых имен советской культуры конца 1930-х — начала 1950-х годов. При жизни Джамбула его сравнивали с Гомером и Руставели, Пушкиным и Шевченко, учили в школе и изучали в институтах, ему посвящали стихи и восторженные панегирики, вручались правительственные награды и ставились памятники. Между тем сам Джамбул, певший по-казахски и едва понимавший по-русски, даже если бы хотел, едва ли мог оценить те переводные — русскоязычные — тексты, которые публиковались под его именем и обеспечивали его всесоюзную славу.

Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.

Фольклористы 1920–1930-х пишут об отмирании и перерождении привычных жанров фольклора. Былина, сказка, духовный стих, обрядовая песня плохо согласуются в своем традиционном виде с прокламируемым радикализмом социальных и культурных перемен в жизни страны. В ряду жанров, обреченных на исчезновение под натиском городской культуры и коллективизации, называется и колыбельная песня.

Страх погребения заживо принято считать одной из базовых фобий человеческой психики. В медико-психиатрической литературе для его обозначения используется термин «тафофобия» (от греч. τάφος — гроб и φόβος — страх), включаемый в ряд других названий, указывающих на схожие психические расстройства — боязнь закрытого пространства (клаустрофобия), темноты (никтофобия), душных помещений (клитрофобия) и т. д. Именно поэтому с психологической точки зрения существование историй о мнимой смерти и погребении заживо не кажется удивительным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
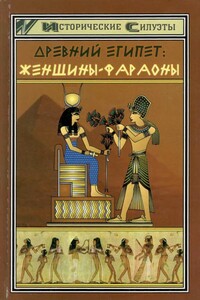
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.