Восстание ангелов в конце эпохи большого модерна - [4]
Человеческий опыт в это время не только приобретает ускорение, но и становится более напряженным. Отвлеченному объяснению этот тезис поддается с трудом. Однако о напряжении человеческого опыта в полной мере свидетельствуют и литература того времени, и воспоминания современников. Сегодняшний рекламный штамп «…Вы почувствуете себя более живым, чем раньше!» воспринимался бы в те годы совершенно буквально. До Французской революции, до наступлений и контрнаступлений наполеоновских армий от Ла-Коруньи до Москвы, от Каира до Риги история по большей части была привилегией и страхом лишь очень немногих. Речь, естественно, идет только об осознанной привилегии и об осознанном ужасе — все люди подвергались лишениям и угнетению точно так же, как и опасности заболеть. Однако раньше в обрушивавшихся на людей лишениях ощущалось некое высшее таинство; события же 1789–1815 годов делают отдельно взятого человека, его жизнь частью исторического процесса. Levee en masse революционных армий — это нечто гораздо большее, чем средство ведения затянувшихся военных действий и социальное внушение. Смысл ополчения вовсе не ограничивается тем, что с прежними методами ведения войны — профессиональная армия, ограниченный участок боевых действий — было покончено. Как прозорливо заметил под Вальми Гёте, армии, состоящие из ополченцев, да и само по себе понятие «вооруженная нация» означали, что история стала всеобщим уделом. С тех пор в западной культуре каждый день призван был вновь и вновь приносить новости о том, что кризис продолжается, что рвутся связи с пасторальной тишиной и единообразием XVIII века. Как здесь не вспомнить историю Де Куинси о почтовых каретах, что мчатся по Англии, разнося весть о начале войны на Пиренеях! Всякий раз, когда самый обычный человек, мужчина или женщина, бросал взгляд на дорогу, он видел за изгородью своего садика лес штыков. Когда Гегель завершал свою «Феноменологию», высшее выражение новой напряженности бытия, он слышал, как по ночным улицам гулко стучат копыта наполеоновской конницы: через несколько дней она должна была принять участие в битве под Йеной.
Революционные и наполеоновские десятилетия принесли глубокие, эмоционально насыщенные изменения: прогресс, личные и общественные права и свободы, носившие раньше условный, нередко чисто аллегорический характер, неожиданно предстали чем-то совершенно реальным, осязаемым. Великие метафоры обновления, строительства словно по указанию свыше обращенного к человеку города разума вдруг обрели непосредственность и драматизм реальности. Вечное «завтра» утопических воззрений в одночасье превратилось в «утро понедельника». Читая декреты Конвента и якобинского режима, мы испытываем головокружительное чувство безграничности наших возможностей: несправедливость, предрассудки, бедность должны быть устранены сегодня, сейчас, в эту самую героическую минуту. Мир сменит свою сносившуюся кожу в ближайшие же две недели. В грамматике Сен-Жюста будущее время находится от нас на расстоянии нескольких мгновений. Чтобы проследить, сколь стремительно происходило вторжение этих чаяний в мировосприятие частного лица, достаточно бросить взгляд на «Прелюдию» Вордсворта и на поэзию Шелли. Наиболее же проницательную оценку этого явления следует, по-видимому, искать в экономических и политических работах Маркса 1844 года. Пожалуй, ни разу с раннего христианства не ощущалось с такой очевидностью, что обновление, конец ночи столь близки. Можно с уверенностью сказать, что за период более сжатый, отмеченный обострением индивидуальной и социальной восприимчивости, по сравнению с любым другим временем, о котором мы имеем достоверную информацию, в Европе произошла невиданная переоценка ценностей. Гегель с присущей ему неопровержимой логикой чувства заметил, что сама история переходит в новое состояние, что прежний порядок свое существование прекратил.
За всем этим последовал, как водится, долгий период реакции и застоя. В зависимости от политической фразеологии это время можно представить либо как эпоху расцвета буржуазии, которая использовала Французскую революцию и наполеоновскую буффонаду в своих экономических интересах, либо как столетие либерального реформизма и цивилизованного порядка. Это мирное столетие, прерываемое лишь довольно вялыми революционными судорогами 1830, 1848 и 1871 годов, а также короткими войнами, носившими, как Крымская и Прусская, сугубо профессиональный, социально консервативный характер, сформировало западное общество и установило культурные нормы, в рамках которых вплоть до самого последнего времени существовали мы все.
Те, кто на личном опыте испытал эти перемены: падение напряженности, нежданно сгустившиеся сумерки, — впали в глубокую депрессию. Корни «великой ennui» следует искать в годах, которые последовали за Ватерлоо и которые еще в 1819-м Шопенгауэр назвал разлагающей болезнью нового времени.
Что было делать одаренному человеку после Наполеона? Каково было людям, привыкшим к электрическому свету революции и имперскому эпосу, дышать под свинцовым небом мелкобуржуазных порядков? Каково было молодому человеку, наслушавшемуся историй отца о революционном терроре и Аустерлице, брести по бульвару в контору при тусклом свете газового рожка? Прошлое вонзало свои крысиные зубы в серую мякоть настоящего; оно озлобляло, порождало дикие сны. Из этого озлобления рождалась большая литература. «Исповедь сына века» Мюссе (1835–1836) с ироническим misere оглядывается на начало великой скуки. Поколение 1830-х было загублено памятью о событиях, которые их самих не затронули. Оно культивировало в себе «un fonds d'incurable tristesse et d'incurable ennui». Представители этого поколения с присущим им нарциссизмом, угрюмым самодовольством мечтателей, пытались — от Гёте до Тургенева — отождествить себя с Гамлетом. Но пустота была реальной, а ощущение истории — до абсурда извращенным. Одареннейшим летописцем этого надлома стал Стендаль. Он принимал участие в безумной круговерти наполеоновских времен; он же провел остаток жизни под иронической личиной человека, которым пренебрегли. «Languissant d'ennui au plus beau moment de la vie, de seize ans jusqu' a vingt» — таково душевное состояние мадемуазель де ля Моль перед тем, как она принимает решение полюбить Жюльена Сореля. Лучше безумие и смерть, чем нескончаемая праздность и овощное рагу буржуазного стиля жизни. Как может интеллектуал ощущать в себе гений Бонапарта, некое подобие демонической силы, что вознесла Наполеона из безвестности на трон, и не видеть перед собой ничего, кроме приевшейся бюрократической пошлятины? Раскольников пишет эссе о Наполеоне — и идет убивать старуху-процентщицу.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.
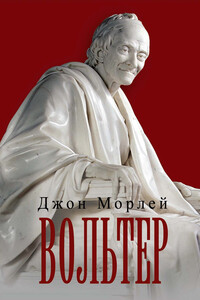
Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.