Воспоминания петербургского старожила. Том 1 - [90]
В это время Воейков хлопотал, собственноручно потчуя чаем своего знаменитого гостя и спрашивая, с чем он хочет пить чай: со сливками, лимоном, коньяком, вареньем или клюквенным морсом?
– Попрошу кисленького морса, – слегка ответил Пушкин и, выпив несколько чая, который оказался слишком горяч, сказал:
– А знаете ли, господа, ведь Фаддей Венедиктович приносит мне пользу в моем домашнем быту. Шутки в сторону, лучше всякого Песталоцци он помогает мне управляться с моими мальчуганами. Крошки еще такие, четырех-пяти лет, а пострелята все в папеньку. Но Фаддей Венедиктович их мигом усмиряет, когда они зашалятся!
И при этом Пушкин принимал с усилием, потому что хотел смеяться, пресериозную мину; хотел же он смеяться, по-видимому, потому, что Александр Федорович, вскинув очки на лоб, изображал собою комическую фигуру изумления, словно думал в этот момент: «Чем черт не шутит, ну если, чего доброго, треклятый Булгарин втерся к Александру Сергеевичу в дом и интимничает у него в качестве гувернера или дядьки!»
– Объясните, бога ради, эту энигму, Александр Сергеевич! – восклицал Воейков, обращаясь к Пушкину, который в это время очень усердно занимался своим стаканом чая с морсом и погружал в него валдайские баранки, о которых некогда сказал:
– Энигма эта состоит в том, Александр Федорович, что Булгарин мне помогает в воспитании моих детей так. Худо что-нибудь сделал мальчик, у меня нет ему другого наказания, как «сегодня ты на два часа Булгарин, а не Пушкин», и, поверите ли, ведь это наказание лучше всех углов, коленей и прочего действует. Пробыть Булгариным даже пять минут они привыкли считать великим горем для себя, и ежели, когда меня нет дома, нашалят как-нибудь, так уж нянька немка уверяет их, что, как только папа вернется домой, она ему пожалуется, и папа накажет Булгариным. «Накажет Булгариным»! Ха! ха! ха! Не правда ли, что [это] стоит России, проданной поляком французу!
И он заливался звонким детским смехом, которому вторил одобрительный смех всего общества.
– А как мил Сенковский, – воскликнул вдруг Александр Сергеевич, – видели вы в «Библиотеке для чтения» его убеждения и уговаривания, чуть не со слезами, чтоб я отказался от моего намерения издавать «Современник»? Да нет, вздор; шалишь, почтеннейший Осип или Иосиф Иванович!
– Не только я читал эти проделки, – завыл Воейков, – да уже приготовил на них критику, которую в следующем нумере напечатаю.
– Ежели близка у вас эта рукопись, пожалуйста, прочтите, Александр Федорович. Интересно, очень интересно, – просил Пушкин.
– С величайшим удовольствием, – сказал Воейков и вынул из своего постоянно при нем находившегося на столике портфеля лист бумаги, с которого прочел следующее:
Пуглив же барон Брамбеус, ей-Богу, право, пуглив. Еще первая книжка «Современника» А. С. Пушкина скрывалась в таинственном свете будущего, а барон уже вздумал уговаривать издателя, чтоб он отступился от своего благого намерения, начал честить его поэтическим гением первого разряда, стращать его грязными болотами, лежащими у подножия Геликона, и вредными испарениями бездонной их тины. Grimace, monsieur le baron, grimace![690] «Мы сочли бы себя счастливыми, – с умилением, почти со слезами, вздыхает наш добрый барон, – если б эти замечания могли еще сдержать Александра Сергеевича Пушкина на краю пропасти, в которую он хочет броситься»[691].
– Лучше бы я сам не возразил, – смеялся Пушкин. – Хорошо, хорошо, очень хорошо! Колко и умеренно! Спасибо, Александр Федорович, спасибо большое.
– Рады стараться, ваше высокопревосходительство! – воскликнул Воейков, ухмыляясь.
– Что уж вы так меня чересчур величаете, Александр Федорович? По званию камер-юнкера я, говорят, высокородие.
– А у нас в литературе русской вы генерал-фельдмаршал, – докладывал Воейков.
Пушкин. Ну полно нам лясы-то точить, а вот поговорим-ка лучше о деле, и именно о том, чтобы держаться крепко против всех выходок «Библиотеки» и Фиглярина. Я могу только раз в месяц давать залп из моих тяжелых орудий[692]; а вы имеете ежедневную газету да еженедельную, так у вас стрельба может быть чаще.
Воейков. Только не из «Инвалида»: со времени гауптвахтной истории, когда Греча, меня и Булгарина рассадили в три гауптвахты, я ничего полемического не помещаю в казенной газете. А вот из «Литературных прибавлений» будем разить еженедельно в том роде, как я вам сейчас прочел.
– Прелестно! – быстро сказал Пушкин. – Но вы коснулись гауптвахтного события, случившегося тогда, когда меня не было в Петербурге. Мне об этом писали друзья столичные.
– Ничего нет особенно любопытного в этом, – говорил Воейков. – Дело довольно простое: государь давно говорил графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, что ему не нравится наша полемическая война, в которой мы задеваем и других, совершенно посторонних; что газеты должны служить чтением, сообщающим новости разного рода, а не сведениями о взаимных личных отношениях лиц, издающих их. Но граф Бенкендорф не предупреждал нас достаточно серьезно, чтобы мы могли понять всю степень царской воли, само собою разумеется священной для каждого из нас. Ну, кончилось тем, что в одно прекрасное или непрекрасное зимнее утро государь разгневался не на шутку, и вот к каждому из нас троих, то есть к Гречу, к Булгарину и ко мне, явилось по фельдъегерю, и каждый из этих фельдъегерей исполнил данное ему повеление отвезти каждого из нас на гауптвахту, предъявив, конечно, каждому из нас как документ нашего арестования, так и мотив этого распоряжения. Греч, как статский советник, в ту пору был препровожден на Сенатскую гауптвахту, я, тогда еще коллежский советник, был препровожден на Адмиралтейскую, а Булгарин, коллежский асессор, на Сеннинскую. Мы просидели, впрочем, только до вечера, когда каждого из нас жандармские офицеры отвезли к графу Александру Христофоровичу. Граф очень вежливо и любезно убеждал нас не входить в слишком резкую полемику, которую терпеть не может государь. У меня, признаюсь, язык чесался сказать, что публика-то лакома до наших петушиных драк и что полемика самая ожесточенная между журналистами в Англии ведется как необходимая приправа журнала или газеты, почему бойцы сами хохочут своей распре и играют в нее, оставаясь между собою добрыми приятелями. Однако язык прильпе к гортани, и я промолчал; но бойкий болтун Греч, словно знал мою мысль, высказал ее очень ловко, заключив: «Ваше сиятельство! отсутствие полемики и этой постоянной между нами потасовки лишит нас многих сотен подписчиков». На это граф сказал: «О потерях не заботьтесь, и все, чего бы лишились по подписке, как вы говорите, будет вам и вашим товарищам возвращено, ежели вы и ваши товарищи докажете, что потери эти произошли не от чего другого, как от того, что полемика перестала быть такою ожесточенною, как ныне». Несколько времени мы от полемических поединков воздержались, но потом государь император стал к этому менее строг, вследствие, как слышно было, ходатайства великого князя Михаила Павловича, который очень жаловал чтение наших бумажных битв. Нынче наша журнальная война дошла, кажется, до своего апогея; Сенковский ввел у нас по этой части прескверные нововведения, относясь к личностям и к произведениям с небывалым до него нахальством.

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

«Гражданская оборона» — культурный феномен. Сплав философии и необузданной первобытности. Синоним нонконформизма и непрекращающихся духовных поисков. Борьба и самопожертвование. Эта книга о истоках появления «ГО», эволюции, людях и событиях, так или иначе связанных с группой. Биография «ГО», несущаяся «сквозь огни, сквозь леса... ...со скоростью мира».

В этой книге мы решили вспомнить и рассказать о ходе русско-японской войны на море: о героизме русских моряков, о подвигах многих боевых кораблей, об успешных действиях отряда владивостокских крейсеров, о беспримерном походе 2-й Тихоокеанской эскадры и о ее трагической, но также героической гибели в Цусимском сражении.

От редакции журнала «Знамя»В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.***РЖ: Раздел книги, обозначенный в издании заголовком «До дневников», отдельно публиковался в «Знамени», но в тексте есть некоторые отличия.

Летом 1941 года в составе Вермахта и войск СС в Советский Союз вторглись так называемые национальные легионы фюрера — десятки тысяч голландских, датских, норвежских, шведских, бельгийских и французских freiwiligen (добровольцев), одурманенных нацистской пропагандой, решивших принять участие в «крестовом походе против коммунизма».Среди них был и автор этой книги, голландец Хендрик Фертен, добровольно вступивший в войска СС и воевавший на Восточном фронте — сначала в 5-й танковой дивизии СС «Викинг», затем в голландском полку СС «Бесслейн» — с 1941 года и до последних дней войны (гарнизон крепости Бреслау, в обороне которой участвовал Фертен, сложил оружие лишь 6 мая 1941 года)
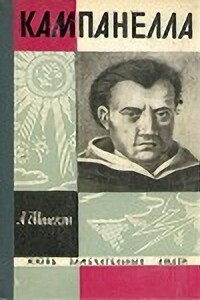
Книга рассказывает об ученом, поэте и борце за освобождение Италии Томмазо Кампанелле. Выступая против схоластики, он еще в юности привлек к себе внимание инквизиторов. У него выкрадывают рукописи, несколько раз его арестовывают, подолгу держат в темницах. Побег из тюрьмы заканчивается неудачей.Выйдя на свободу, Кампанелла готовит в Калабрии восстание против испанцев. Он мечтает провозгласить республику, где не будет частной собственности, и все люди заживут общиной. Изменники выдают его планы властям. И снова тюрьма. Искалеченный пыткой Томмазо, тайком от надзирателей, пишет "Город Солнца".
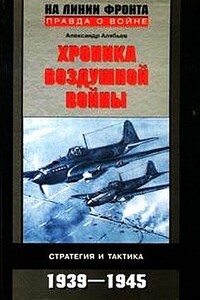
Труд журналиста-международника А.Алябьева - не только история Второй мировой войны, но и экскурс в историю развития военной авиации за этот период. Автор привлекает огромный документальный материал: официальные сообщения правительств, информационных агентств, радио и прессы, предоставляя возможность сравнить точку зрения воюющих сторон на одни и те же события. Приводит выдержки из приказов, инструкций, дневников и воспоминаний офицеров командного состава и пилотов, выполнивших боевые задания.
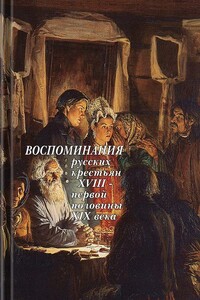
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.