Воспоминания о Марине Цветаевой - [170]
Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.
Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городишка название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева. Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она безусловно не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.
Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.
— А с Ляшко вы можете поговорить?
— С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.
Однако фамилия Ляшко — быть может, по совпадению окончаний? — напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.
— Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.
Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.
Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:
«Правда», 18 августа, понедельник.
От Советского информбюро. Вечернее сообщение.
«В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны».
19 августа, вторник.
После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.
21 августа.
«Ко всем трудящимся города Ленина.
Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.
…Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам!
Победа будет за нами!»
Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?
26 августа. Вечернее сообщение:
«В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».
Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева — он сам с Украины, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.
Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж конечно никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.
Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю, где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?
Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели — оставят? Оставят Киев?.. Я очень город любила, жил он в моем сердце: там отец, и мать. И брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, все все мы, — почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому — тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил… Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец — редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! — повторил он несколько раз на прощанье. — Сейчас самое главное — каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой — и к самой жизни… Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
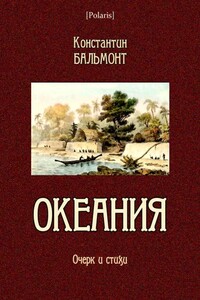
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.
