Восьминка - [7]
Она спокойно, умиротворенно задремала.
Но дети вернулись скоро.
— Олени! Бабушка, олени! Четыре! К нам!
И сразу же, следом почти, вошла знакомая нестарая ненка в расшитой панице-шубе, шапка-кастрюля за плечами болтается. Не один раз когда-то приезжала она к Сусанне Карушковой за молоком и сметаной. И мясо привозила, и шкура, которая под Сусанной, тоже у нее выменяна.
— Сторово! Болеешь? Ницаго! Вельшар есть, болеть не будешь!
Подошла к Сусанне, поняла, что тут дело худо, сказала, извиняясь:
— Мяса-гостинца не привез! Ненароком в деревню я ехал, ненароком! Не привез гостинца! Бригадир меня послал… В цум не заезжал — сгорей сюда! Цей робят? Переселенца? Спросил я: «Есть молоко?» «Нету, — говорят, — молоко!» «Почто нету?». «Корова нету!»… Ах-ох, гостинца не привез!
Раньше было так: у Сусанны какой-нибудь простенький подарок заранее приготовлен, и ненка всегда что-нибудь вкусное гостинцем везла. Но что делать? Не то время…
Сусанна шевельнула рукой, мол, не расстраивайся!
Но ненка не разглядела, продолжала:
«Цяй, — спрашиваю, есть?» — «Есть, говорят, — цяй!» Я бежал, думал: «Сменяю цяй хорошему человеку, тебе мясо отдам. Весь холка!» Бригадир дал, менять послел, молока нада, цяй нада!
Немка вышла в сени, вернулась с розовой четвертиной оленя. От мяса несло морозом.
— Во какой холка! Зад! Велел бригадир: «Всю за одну пацку, за пийсят грамм отдай, цяй вози! У нас один женщин родил, цяй нету — молока нету, помирай завтра ребенок!»
Водрузила гостья холку на стол, на тот же стол, с чаем рядом.
Глянули дети: край холки отрублен неровно, розовые полоски просвечивают на солнце. И тут же — в укромное место, на теплую печь юркнули.
Слышала бабка, как старшие заталкивали вглубь, подальше от края, младшую сестренку, уговаривали не плакать.
— Обидели? — напрягаясь, еле слышно спросила Сусанна.
— Не! — жестко и сердито ответили с печки. — Рева она!
— Сколько цяю дашь? — спросила ненка. Она всегда говорила громко и отрывисто.
Сусанна лежала неподвижно, не шевеля ни головой, ни губами.
Ненка поглядела на чай на фанерке:
— Тут мало! В один цяйник. Мало!
Сусанна лежала все так же молча, открыв глаза, видела сучки в полатницах и ощущала, слышала, чувствовала все сразу: как ходит ненка по комнате, как передвигает ноги и оставляет мокрые следы, как лежат на столе рядом и чай, и мясо, если смотреть со стороны ненки, как дети шевелятся на печи, и стала душа наливаться холодом, словно струился он туда прямо от розовой, кинутой на стол холки.
«Не дожить ведь, не дожить… Не подняться даже…» — тоскливо подумала она, и ложилась эта мысль на грудь ее неотвратимыми тяжкими плитами.
Ненка, удивленная молчанием, подошла к кровати, глянула в невидящие глаза старухи, пожалела ее, решила, что расстроилась Сусанна из-за невозможности мясо выменять, сказала, сожалея о том, что говорит:
— Ницаго! Разрублю, цясть тебе дам! А на другу цясть у других менять буду! Хороша мясо! Рубить?! Меняшь цяй?!
В голове у Сусанны стало мешаться. Она напряглась из последних сил, чтоб не утерять, не упустить кончики мыслей, не впасть в беспамятство…
— Совсем ты худой стал, бабка-старух! Совсем худой! Ись ната! Ись ната! Меням! Не убьет бригадир! Пошел я рубить!
А за этими добрыми словами все явственней и отчетливей слышала Сусанна — плачет на печи младшая девочка, даже чувствовала, как вздрагивает она, как гладят-успокаивают ее сестры, а она тихо-тихо, — и Сусанны слышала это удивительно явственно, явственней, чем громкие слова ненки, — тихо-тихо просила:
— Мясо… Красненькое… Капельку… Капельку…
Ненка взяла со стола тяжелую холку, и вскоре из сеней послышался звук разрубаемого мяса: сперва мягкий, глухой, потом звонкий — кости хватил топор…
У Сусанны закрылись глаза, тело ее осело как-то, голова будто бы приподнялась на подушке, а подбородок беспомощно в грудь уткнулся…
— Бабушка! — испугано вскрикнула старшая девочка и кинулась с печки к Сусанне. — Бабушка!
Она спрятала лицо в постель рядом со старухой и горячо заплакала:
— Не меняй, бабушка! Не меняй, Родненькая! Не надо. Глупенькая она еще, маленькая, оттого и плачет… Не меняй, бабушка-а!..
Сусанна Карушкова еще понимала, еще чувствовала эти жалостливые слова, и ей от них вроде бы даже полегче стало… Но того, как ненка дверь снова открыла, она уже не услышала. Уже ничего вне ее для нее, Сусанны Карушковой, уже не существовало. Лишь где-то очень далеко, почти неуловимо, тоненькой-тоненькой последней ниточкой текла и растворялась мысль, что не зря она перину вытащить из-под себя велела. Метила — кому-нибудь сгодится, а вышло — сыну родному.
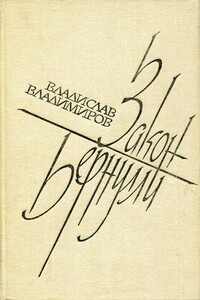
Герои Владислава Владимирова — люди разных возрастов и несхожих судеб. Это наши современники, жизненное кредо которых формируется в активном неприятии того, что чуждо нашей действительности. Литературно-художественные, публицистические и критические произведения Владислава Владимирова печатались в журналах «Простор», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. В 1976 году «Советский писатель» издал его книгу «Революцией призванный», посвященную проблемам современного историко-революционного романа.
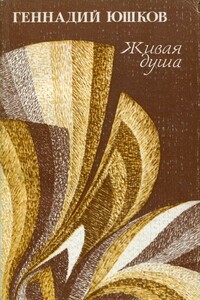
Геннадий Юшков — известный коми писатель, поэт и прозаик. В сборник его повестей и рассказов «Живая душа» вошло все самое значительное, созданное писателем в прозе за последние годы. Автор глубоко исследует духовный мир своих героев, подвергает критике мир мещанства, за маской благопристойности прячущего подчас свое истинное лицо. Герои произведений Г. Юшкова действуют в предельно обостренной ситуации, позволяющей автору наиболее полно раскрыть их внутренний мир.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.

Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.
