«Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? - [8]
Это обобщение, однако, нуждается в уточнении. В такой огромной стране с её культурным разнообразием политические реформы, родившиеся в Москве, были обречены иметь самые разные результаты, от быстрой демократизации в российских столичных городах и Прибалтике до менее заметных изменений в среднеазиатских партийных диктатурах. Кроме того, уход Коммунистической партии с политической сцены, даже там, где демократизация достигла значительных успехов, не был полным и окончательным. Насчитывавшая несколько миллионов членов, имевшая ячейки практически в каждом учреждении и на каждом предприятии, обладавшая длительным опытом контроля над военными и другими силовыми структурами, огромными финансовыми ресурсами и привычным влиянием на граждан, — партия оставалась самой внушительной политической организацией в стране. И, хотя политические заключённые были выпущены на свободу, права человека набирали вес, а органы безопасности сделались предметом всё более пристального и растущего общественного интереса, КГБ также не претерпел заметных изменений и оставался практически бесконтрольным.
Тем не менее, процесс перераспределения власти, долгое время принадлежавшей КПСС, между парламентом, новым институтом президентства и ныне подлинно выборными Советами на местах зашёл достаточно далеко. Горбачёв не преувеличивал, когда заявил на съезде партии в 1990 г.: «Пришёл конец монополии КПСС на власть и управление». Процесс демонополизации покончил ещё с одной чертой старой советской системы — псевдодемократической политикой. Широкий и разноголосый политический спектр, загнанный прежде в подполье, теперь пользовался почти полной свободой слова. Организованная оппозиция, десятки потенциальных партий, массовые демонстрации, забастовки, бесцензурные публикации, — всё то, что подавлялось и запрещалось в течение 70 лет, было узаконено и быстрыми темпами распространялось по стране. И опять Горбачёв был недалёк от истины, когда с гордостью заметил, что Советский Союз внезапно превратился в «самое политизированное общество в мире»>{24}.[13]
Россия и прежде бывала глубоко политизирована (судьбоносно — в 1917 г.), но никогда ещё этот процесс не происходил при поддержке правящего режима или во благо конституционного правления. Конституционализм и законность вообще были самыми характерными чертами политических реформ Горбачёва. Законов и даже конституций в России было немало (как до 1917 г., так и после), но чего действительно не было, так это конституционного порядка и реально ограниченной законом власти, которая традиционно концентрировалась в руках верховного руководства и осуществлялась посредством бюрократических указов (по некоторым подсчётам, в 1988 г. в ходу было около миллиона министерских указов)>{25}.
В этом состоит уникальная суть политических реформ Горбачёва. Весь процесс перехода страны от диктатуры к неоперившейся демократии, основанный на отделении бывшего всевластия Коммунистической партии от «социалистической системы сдержек и противовесов», проходил в рамках существующей и постепенно совершенствующейся конституционной процедуры. Культура закона и политические традиции, необходимые для демократического правления, не могли возникнуть в одночасье, но начало было положено. Например, в сентябре 1990 г. новоиспечённый Конституционный суд отменил один из первых президентских указов Горбачёва, и тот был вынужден подчиниться>{26}.
Почему же, при всех этих очевидных успехах, так часто говорят о провале политических реформ Горбачёва? Ответ, который обычно следует за этим, заключается в том, что КПСС, этот оплот старой системы, якобы оказалась нереформируемой>{27}. Это обобщение дважды неточно. Во-первых, оно приравнивает советскую систему в целом к КПСС, так что выходит, будто первое не могло существовать без второго, а во-вторых, оно рассматривает партию как единый, однородный организм.
К концу 1980-х гг. КПСС, прошедшая в своём развитии долгий и непростой путь, представляла собой огромное государство, состоящее из четырёх связанных между собой, но при этом существенно различных общностей: относительно небольшой руководящий орган — пресловутый аппарат, диктаторски контролирующий всю партию и, хотя и всё меньше, собственно бюрократическое государство>{28};[14] назначаемая аппаратом, но более многочисленная и разнообразная номенклатура, представители которой занимали все важные посты в советской системе; примерно 19 миллионов рядовых членов, многие из которых вступили в партию по карьерным соображениям или из конформизма; и, скрывающиеся в тени, потенциально полноценные, но пока находящиеся в эмбриональном состоянии, политические партии — реформистская, консервативная и неосталинистская. Естественно, что все эти компоненты КПСС по-разному реагировали на реформы Горбачёва.
Был или не был реформируем партийный аппарат, а это около 1800 функционеров в центральных органах в Москве и ещё несколько сотен тысяч на других уровнях системы, — едва ли имело значение, поскольку к 1990 г., благодаря политике Горбачёва, он был лишён большинства своих прав и привилегий. (Особенно показательной в этой связи было растущая оппозиция реформам со стороны Егора Лигачёва — главного представителя партаппарата и некогда союзника Горбачёва.) Главный нервный центр аппарата, Секретариат ЦК, фактически прекратил свою деятельность, партийные комитеты в министерствах были распущены или утратили влияние, а на более низком государственном уровне их власть перешла в руки избираемых Советов. В провинции этот процесс шёл гораздо медленнее; толчком послужило обретение им официального статуса, когда полномочия, десятилетиями осуществляемые ЦК и Политбюро, торжественно были переданы новому советскому парламенту и президенту. Контроль и влияние аппарата существенно снизились даже внутри самой партии, а в 1990 г. его глава, Генеральный Секретарь, прежде выбираемый тайно партийными олигархами из своего числа, впервые был избран открыто на общесоюзном съезде партии
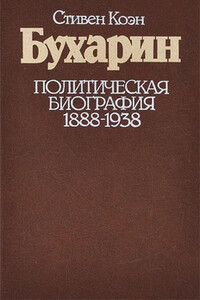
Бухарин. Политическая биография (англ. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography) — однотомная биография Николая Бухарина, опубликованная профессором Нью-Йоркского университета Стивеном Коэнем в 1980 году. В 1979 году, на международной выставке-ярмарке в Москве, работа была конфискована, но затем была переведена на русский язык и вышла в СССР в 1988 году тиражом в 150 000 экземпляров. В этой книге, являющейся исследованием взаимосвязи политической программы Бухарина и исхода внутрипартийной борьбы 1928–1929 годов, автор заочно полемизирует с Исааком Дойчером и Эдуардом Карром, рассматривающими позицию Льва Троцкого в качестве единственной альтернативы сталинизму в СССР.
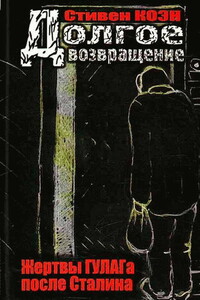
В центре внимания нового (или, как выясняется, не очень нового) исследования видного американского историка Стивена Коэна — нелёгкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского террора. Среди вопросов, волнующих автора: перипетии этого процесса при Хрущёве и после него, роль бывших репрессированных в политике оттепели, а также неоднозначное отношение к ГУЛАГу и гулаговцам со стороны власти и общества в СССР и постсоветской России.
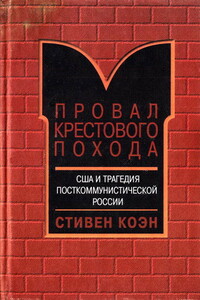
В своей новой книге профессор Стивен Коэн, видный американский историк и знаковая фигура в СССР периода перестройки, анализирует трагедию последовавшего за ней десятилетия и ту роль, которую сыграла в этом политика администрации США, а также бизнесмены, журналисты, экономисты, политологи и историки. Автор ищет ответы на сложные вопросы: Кто проиграл Россию?, Наступит ли после «холодной войны» «холодный мир»?, Могла ли в принципе Америка трансформировать Россию по своему облику и подобию? Надо ли изучать Россию без России? В конце книги автор предлагает своё видение того, какой должна быть политика США в отношении России и российско-американские отношения в новом тысячелетии.Книга рассчитана не только на специалистов, но и на самый широкий круг читателей, всех, кому небезразлична история и будущее России.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.