Волок - [11]
Не есть ли совершенно одно ли лишь отсутствие?
Адам Загаевский
Вот уже два месяца я не расстаюсь с «Жаждой» Адама Загаевского. Вечером забираю с собой наверх, в спальню — на сон грядущий, утром приношу вниз, в кухню — к зеленому чаю, которым я встречаю солнце. Нередко обращаюсь к нему и в течение дня… Заодно пролистал вновь — по очереди — все сборники поэта. Все, которые у меня есть. И прозу, и стихи.
Мой дом стоит на самом берегу моря… «Что можно сказать о море? — пишет поэт в тексте «Среди чужой красоты», — говорлив один лишь пляж». Я смотрю в окно… «Кто говорит, кто пытается выразить бытие — предает его; бытие молчаливо и полно в своей невысказанности, всякое слово способно лишь обеднить его». Да.
Читаю «Жажду», будто пальцем вожу по следам волн на песке, соли на камнях.
Вот хотя бы стихотворение «По памяти», открывающее сборник. Как долго, наверное, это кристаллизовалось — в молчании — чтобы обрести подобную чистоту линий? На первый взгляд — предельно просто, крупицы памяти: узкая улочка, дым над коксовым заводом, соседи, снег на крышах, ксендз-сластолюбец. Но ведь каждый из этих старательно подобранных камешков прошел через «гортань стихотворения» — узкую, словно улочка. И неслучайно определение «узкий» появляется в тексте целых три раза. Можно лишь предполагать, о чем не говорят узкие губы старых дев, переживших Сибирь и Сталина, о чем не способен сказать узкий жаргон обыденности и подлости… В стихотворении «По памяти» на поверхности выступают лишь верхушки айсбергов — например, снег, лежащий на крышах «чутко, словно индеец», приносит запахи вигвамов детства… Однако я не вполне согласен с поэтом, что всякое слово обедняет бытие. Лишь то слово обедняет бытие, которое претендует на окончательность, то же, которое лишь намекает, напротив, обогащает его. Подобно стихотворению «По памяти».
Или «Комната». Она отличается от моей. За окном вместо моря и монастыря там — «несколько худых деревьев, / тонкие облака и дети из детского сада, / всегда радостные, шумные. / Порой сверкнет вдали окно автомобиля / или, выше, серебряная чешуйка самолета». Зато внутри выглядит так же — «куб, как для игры в кости». Даже у заварочного чайника схожая «надутая габсбургская губа». Поэт мечтает о полной сосредоточенности (которую Симона Вейль называла молитвой) и добавляет, что обрети он ее — вероятно, перестал бы дышать… Его труд есть. «масса неподвижного ожидания, / перелистывания страниц, терпеливой медитации, / пассивности».
Вопрос: растрачивает ли поэт время, — которого другие не теряют, — в поисках приключений на земле и выше, или же в подобные минуты он занят созерцанием, в котором Вейль видела ключ к человеческой жизни? Ответ мы находим в «Комнате».
Наконец — «Автопортрет», завершающий сборник. Выполненный несколькими штрихами, смутный, словно на темном мониторе. «Компьютер, карандаш и пишущая машинка занимают половину моего дня». На первый взгляд, поражает дистанция: «Я живу в чужих городах и порой говорю / с чужими людьми о чужих для меня вещах». Троекратное повторение одного слова, в одной только фразе. Ощущение чужести давно уже полюбилось поэту — он писал об этом в тексте «Среди чужой красоты», — в Праге, где впервые испытал это удивительное чувство: быть чужим и тем самым словно бы более реальным. (Как тут не вспомнить Гомбровича: «Я существую один. Поэтому я более чем существую».) Отсюда особая перспектива, с которой поэт видит ближних, охваченных завистью, вожделением или гневом, и монеты, стершиеся под множеством пальцев, деревья, не выражающие ничего, и птиц… Отсюда и одиночество, благодаря которому жизнь «пока что принадлежит мне» — как в «Автопортрете».
Читаю «Жажду», будто пальцем вожу по следам волн на песке, соли на камнях…
Отчуждаться — проникать внутрь себя. Существовать полнее, реальнее, нежели в разреженном пространстве связей, в сети отношений, сношений, взаимоотношений мнимой реальности. Да что там, даже собственный язык, когда мы пользуемся им по праздникам — по будням пребывая в пространстве языка чужого, — делается жестче, конкретнее… Освобождается от шелухи повседневности и всей этой словесной ваты — словесного хлама.
Некоторое время назад Даниэль Бовуа[9] в письме в «Культуру» обратил внимание на некорректное — с его точки зрения — использование мною слова «ruski», которым я якобы заменяю словечко «rosyjski», и назвал это «языковым искажением, оскорбляющим представления поляков о Европе». Далее профессор призывал меня придерживаться давней традиции польского языка, согласно которой слово «Русь» может быть употреблено лишь в двух случаях:
1) если речь идет о восточных славянах до XV века;
2) в отношении бывших восточных территорий Речи Посполитой, то есть об Украине и Белоруссии.
Языковая щепетильность — по мнению профессора — имеет особое значение в период, когда подобной дифференциации требует независимость этих стран.
Что ж… Относительно давней традиции польского языка профессор Бовуа, возможно, и прав[10]. Однако для человека, просидевшего в России многие годы (пусть и полониста по образованию), вопрос не столь прост и однозначен, как грамматические правила, более того — он запутывается и затуманивается, и в результате мне приходится отступить от закона языковой корректности во имя

Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — записи «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, интервью и эссе образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли.Север для Вилька — «территория проникновения»: здесь возникают время и уединение, необходимые для того, чтобы нырнуть вглубь — «под мерцающую поверхность сиюминутных событий», увидеть красоту и связанность всех со всеми.Преодолению барьера чужести посвящена новая книга писателя.
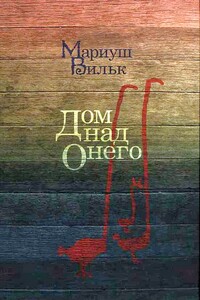
Эта часть «Северного дневника» Мариуша Вилька посвящена Заонежью. Не война, не революция, и даже не строительство социализма изменили, по его мнению, лицо России. Причиной этого стало уничтожение деревни — в частности, Конды Бережной, где Вильк поселился в начале 2000-х гг. Но именно здесь, в ежедневном труде и созерцании, автор начинает видеть себя, а «территорией проникновения» становятся не только природа и история, но и литература — поэзия Николая Клюева, проза Виктора Пелевина…
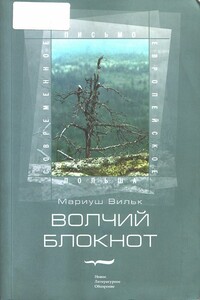
В поисках истины и смысла собственной жизни Мариуш Вильк не один год прожил на Соловках, итогом чего и стала книга «Волчий блокнот» — подробнейший рассказ о Соловецком архипелаге и одновременно о России, стране, ставшей для поляков мифологизированной «империей зла». Заметки «по горячим следам» переплетаются в повествовании с историческими и культурологическими экскурсами и размышлениями. Живыми, глубоко пережитыми впечатлениями обрастают уже сложившиеся и имеющие богатую традицию стереотипы восприятия поляками России.

Очередной том «Северного дневника» Мариуша Вилька — писателя и путешественника, почти двадцать лет живущего на русском Севере, — открывает новую страницу его творчества. Книгу составляют три сюжета: рассказ о Петрозаводске; путешествие по Лабрадору вслед за другим писателем-бродягой Кеннетом Уайтом и, наконец, продолжение повествования о жизни в доме над Онего в заброшенной деревне Конда Бережная.Новую тропу осмысляют одновременно Вильк-писатель и Вильк-отец: появление на свет дочери побудило его кардинально пересмотреть свои жизненные установки.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Бен Уикс с детства знал, что его ожидает элитная школа Сент-Джеймс, лучшая в Новой Англии. Он безупречный кандидат – только что выиграл национальный чемпионат по сквошу, а предки Бена были основателями школы. Есть лишь одна проблема – почти все семейное состояние Уиксов растрачено. Соседом Бена по комнате становится Ахмед аль-Халед – сын сказочно богатого эмиратского шейха. Преисполненный амбициями, Ахмед совершенно не ориентируется в негласных правилах этикета Сент-Джеймс. Постепенно неприятное соседство превращается в дружбу и взаимную поддержку.

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.