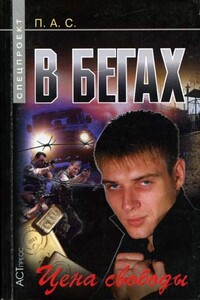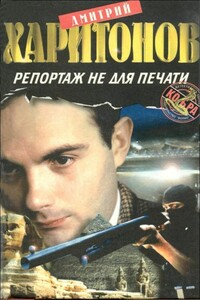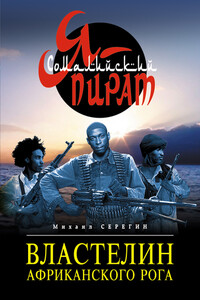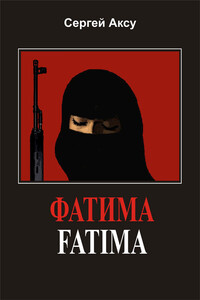Решили уединиться в небольшом кафе, неподалеку от вокзала. До отхода Володькиного поезда было еще время. Взяли водки, бутербродов. Кныш разлил по стаканам.
– За ребят, за Бутика, за Дудакова, за Танцора, за всех, кого нет с нами! Вечная им память!
Выпили стоя. Помолчали, поминая не вернувшихся.
– Эх, заика чертов! Если б ты только знал, как я тебя люблю! – Володька хлопнул друга по плечу, взъерошил ему непослушную русую шевелюру.
– А помнишь, как Пашка полные портки наложил, когда двух «чехов» завалил?
– К…коонечно пп…поомню!
– Разъехались, черти! Кто куда! Первым выплыл Андрюха. Долго с ним переписывались, потом он как в воду канул. Потом уж его родители написали, что на «нары», буйная головушка, попал. Крепко настучал какому-то черножопому на рынке по башке. Свистунов как-то объявился, крутой весь из себя, в «налоговой» сейчас. Трясет толстосумов. Головко учится в Москве. Вычитал где-то в газете обращение ректора МГУ к участникам боевых действий. Воспользовался льготами, поступил в университет, ведь самый головастый из нас был. Одно слово – Головко! Бакаша приезжал прошлой осенью, две большущие канистры меда из деревушки притаранил. Пасека у него своя, хозяйство. Одним словом, процветает. Фермерствует. Ты-то где сейчас? Как здесь-то очутился? По бригаде затосковал, братишка?
Елагин отвечал медленно, сильно заикаясь, подолгу подбирая слова. Часто подергивая русой головой.
– Продажные твари! Мразь! – зло вырвалось у Кныша, когда он узнал, сколько приятель получает по инвалидности.