Волчьи ночи - [47]
Присутствующие были поражены.
— А эта Эмима — ведьма и зло, которое пытается вас соблазнить! — поспешил он с ещё большим воодушевлением. Но мгновенное замешательство растворилось в снисходительных насмешках — как будто относительно этого его выпада, который в первую очередь всем им показался неслыханной глупостью, не стоило и волноваться, как будто они услышали что-то, над чем смеются только озорные детишки, тогда как для них, взрослых людей, это была просто глупость, способная вызвать максимум снисходительное сочувствие. Михник одобрил их улыбкой и вдобавок насмешливым покачиванием головы. А Эмима испытывала только презрение, которого явно не скрывала. И как раз её поведение чуть-чуть не стало последней каплей, ещё немного — и он бы снова указал на неё и громко и внятно объявил при всём собрании, что она каждую ночь с ним спит. Но он сдержался. Едва сдержался. К счастью, вовремя понял, что в первую очередь хуже всего будет ему самому. Он и так бы с удовольствием провалился сквозь землю. Он и так уже не знал, куда деваться с самим собой и с глупостью, которую он проблеял и которая так невероятно жестоко по нему ударила, что он с удовольствием пустился бы наутёк, спрятался бы и никогда больше не показывался перед этими людьми. И ничего нельзя было исправить. Он мог только падать ещё ниже. У всех на глазах. Для него было совершенно очевидно, что они действительно с жестоким удовольствием изгоняли его. Даже там, в трактире. Даже Куколка… И что все вместе, медленно, шаг за шагом подготавливали его падение. При помощи Эмимы они поймали в свои сети Михника… Рафаэлю стало ясно, что кто-то в костюме дьявола одурачил его тогда под вербами и направил к Грефлинке. Как ни крути, постоянно, снова и снова, получалось одно и то же: он был обманут ими, как набитый дурак.
Он не слышал их.
У него шумело в ушах. Очевидно, они затем обсуждали хор и сошлись на предложении Михника, что все собравшиеся будут участвовать в хоре.
И Эмима снова налила всем. Кроме него…
Наконец он собрался с силами и, как дворняга, которую пинками прогнали вон, потащился на кухню, и с ужасно болезненным ощущением, как будто он во второй раз провалил перед профессором экзамен и на этот раз окончательно, упал на кровать.
XIII
Однако после этого не произошло ничего особенного.
Разумеется, этой ночью он не мог уснуть. Он проклинал себя и всех, и давал себе клятву, что утром сразу отправится к декану, а возможно, и прямо к епископу, и, невзирая на последствия, которые могли коснуться его самого, если бы он открыто во всём сознался, донесёт на Михника и его потаскуху. Однако для начала он, конечно, должен был бы проверить, на самом ли деле старика когда-либо официально посылали в Врбье, потому что он был убеждён, что на самом деле речь идёт о каком-то еретическом заговоре деревни против церкви и церковных законов. Эта «истинно наша, подлинно наша мистерия», которую Михник при всех обещал устроить накануне Рождества, не выходила у него из головы просто потому, что мистерия, которую устроили старик и его потаскуха для него, Рафаэля, не могла означать ничего другого, кроме самоуправства, которое нужно было пресечь.
В то же время он ненавидел всех этих проклятых пьяниц, чьи насмешливые лица всю ночь маячили у него перед глазами. Он и Куколку ненавидел, и эта ненависть была самой болезненной из всех.
К счастью, потаскуха Михника в кухне не появилась…
Однако уже на следующий день и Михник, и Эмима попытались вести себя как ни в чём не бывало.
Они приготовили обед — и для него тоже — и немного удивились, когда он буркнул, что не будет есть, и предпочёл уйти в церковь с бутылкой, где, без малейшей охоты что-либо делать, слонялся, скучал и пил жганье, которое было для него единственным утешением, единственным спасением от жестокой, глубоко застрявшей боли, которая всё никак и никак не утихала.
А перед глазами у него снова плясали лица. Лики святых — со страдальчески-горестными глазами, — отрешённые лики праведников в полумраке серебристого нефа во главе с Врбанусом VIII безмолвно и вместе с тем угрожающе поджидали, пока придут люди — все эти пьяницы, эти шлюхи из Врбья, существование которых на самом деле не имело никакого смысла. Он бы приковал их всех к скамьям, как рабов на галерах… Пусть молчат, пусть ждут, пока не проснётся сильный и суровый капитан и истина не пробьётся в их затуманенные хмелем блуждающие мысли. Он даже сам был готов подтолкнуть её, эту истину, чтобы она безжалостно упала и жгла, чтобы все до последнего человека в патетическом забытьи, словно эти святые с преданно-страдальческими лицами, погрузились в единую смиренную мольбу о помиловании. И тогда он встал бы перед ними, широко расставив ноги, и с издёвкой прокричал: «Этот корабль, дорогие мои, плывёт в никуда!»
Он расхаживал из угла в угол — так, что его шаги отдавались эхом от каменных плит — и, утешая самого себя, мечтал о наказании, которое с его помощью, если он только доберётся до епископа, наверняка постигнет Михника и потаскушку Эмиму. Так или иначе, это было решено. Ему нужен был только хороший план. На этот раз он не хотел торопиться. В душе вздымался мрак — холодной, отрешённой и какой-то незнакомой тишиной давило на него от алтарей и стен, и от всех этих смиренных бледных лиц, каждое из которых на свой лад отрицало людей и возвеличивало страдающее смирение, и за всем этим сурово наблюдал облачённый в алый бархат Врбанус VIII. Даже зазубренный треугольник на потолке, на котором почти не осталось позолоты, выглядел более приветливым, чем он. Таким мрачным показалось ему это здание, этот неф, этот корабль, который был не в состоянии дать ни веселья, ни счастья. Свет с трудом проникал в тусклые витражные окна, а в глазах деревянных фигур застыла смерть. Мёртвые картины, мёртвые мысли, последний путь и могущественный рыцарь в алом, мёртвое молчание, мёртвый мрак, смерть и приговор, вынесенный в соответствии со степенью смирения и раскаяния… «Этот корабль, дорогие мои, — только изображение рая», — сказал бы он им. В том числе Грефлину, измождённое лицо которого, словно галлюцинация, вертелось перед его глазами. Оно как будто просило подаяния, кривилось и в то же время беззвучно разевало рот, словно ежесекундно молило о помощи. Оно уже ни к чему и ни к кому не питало ненависти. Только бледно и безмолвно умоляло, как будто искало освобождения от невыносимого унижения и страдания. Рафаэль попытался отогнать этот образ, словно докучливое видение, которое неизвестно почему вылезает на передний план. Однако запавшие, потухшие глаза на костистом лице снова и снова умоляли его, как будто просили указать направление, которое сами не могли выбрать. В налившихся кровью подглазниках таилась история о грехе, и о похотливой женщине, и вонзившемся в грудь страдании, которое уже не может больше вызвать ни ненависть, ни боль — одно лишь мучительное горе, которое, как говорят, угасает последним.

Рассказанные истории, как и способы их воплощения, непохожи. Деклева реализует свой замысел через феномен Другого, моделируя внутренний мир умственно неполноценного подростка, сам факт существования которого — вызов для бритоголового отморозка; Жабот — в мистическом духе преданий своей малой родины, Прекмурья; Блатник — с помощью хроники ежедневных событий и обыденных хлопот; Кумердей — с нескрываемой иронией, оттеняющей фантастичность представленной ситуации. Каждый из авторов предлагает читателю свой вариант осмысления и переживания реальности, но при этом все они предпочли «большим» темам камерные сюжеты, обращенные к конкретному личностному опыту.

Без аннотации В истории американской литературы Дороти Паркер останется как мастер лирической поэзии и сатирической новеллы. В этом сборнике представлены наиболее значительные и характерные образцы ее новеллистики.
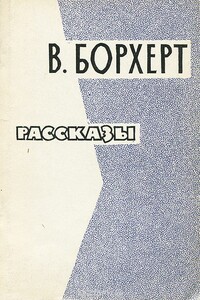
Умерший совсем в молодом возрасте и оставивший наследие, которое все целиком уместилось лишь в одном небольшом томике, Вольфганг Борхерт завоевал, однако, посмертно широкую известность и своим творчеством оказал значительное влияние на развитие немецкой литературы в послевоенные годы. Ему суждено было стать пионером и основоположником целого направления в западногерманской литературе, духовным учителем того писательского поколения, которое принято называть в ФРГ «поколением вернувшихся».

Действие «Раквереского романа» происходит во времена правления Екатерины II. Жители Раквере ведут борьбу за признание законных прав города, выступая против несправедливости самодержавного бюрократического аппарата. «Уход профессора Мартенса» — это история жизни российского юриста и дипломата, одного из образованнейших людей своей эпохи, выходца из простой эстонской семьи — профессора Мартенса (1845–1909).
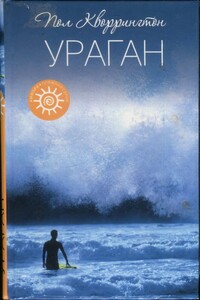
Роман канадского писателя, музыканта, режиссера и сценариста Пола Кворрингтона приглашает заглянуть в око урагана. Несколько искателей приключений прибывают на маленький остров в Карибском море, куда движется мощный ураган «Клэр».
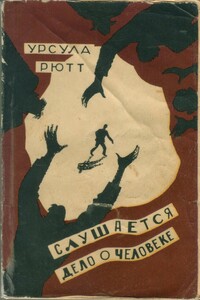
Аннотации в книге нет.В романе изображаются бездушная бюрократическая машина, мздоимство, круговая порука, казарменная муштра, господствующие в магистрате некоего западногерманского города. В герое этой книги — Мартине Брунере — нет ничего героического. Скромный чиновник, он мечтает о немногом: в меру своих сил помогать горожанам, которые обращаются в магистрат, по возможности, в доступных ему наискромнейших масштабах, устранять зло и делать хотя бы крошечные добрые дела, а в свободное от службы время жить спокойной и тихой семейной жизнью.
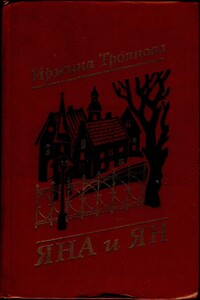
Роман чехословацкой писательницы посвящен жизни и учебе воинов чехословацкой Народной армии. В центре внимания — взаимоотношения между молодым офицером Яном и его женой. Автор показывает всю ответственность и важность профессии кадрового офицера социалистической армии, раскрывает сложные проблемы личных взаимоотношений в семье.Книга предназначена для широкого круга читателей.

Этот роман — о жизни одной словенской семьи на окраине Италии. Балерина — «божий человек» — от рождения неспособна заботиться о себе, ее мир ограничен кухней, где собираются родственники. Через личные ощущения героини и рассказы окружающих передана атмосфера XX века: начиная с межвоенного периода и вплоть до первых шагов в покорении космоса. Но все это лишь бледный фон для глубоких, истинно человеческих чувств — мечта, страх, любовь, боль и радость за ближнего.
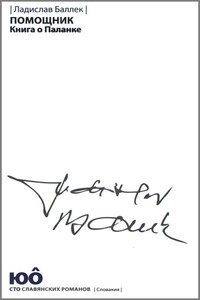
События книги происходят в маленьком городке Паланк в южной Словакии, который приходит в себя после ужасов Второй мировой войны. В Паланке начинает бурлить жизнь, исполненная силы, вкусов, красок и страсти. В такую атмосферу попадает мясник из северной Словакии Штефан Речан, который приезжает в город с женой и дочерью в надежде начать новую жизнь. Сначала Паланк кажется ему землей обетованной, однако вскоре этот честный и скромный человек с прочными моральными принципами осознает, что это место не для него…
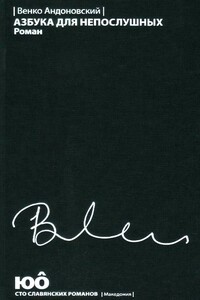
«…послушные согласны и с правдой, но в равной степени и с ложью, ибо первая не дороже им, чем вторая; они равнодушны, потому что им в послушании все едино — и добро, и зло, они не могут выбрать путь, по которому им хочется идти, они идут по дороге, которая им указана!» Потаенный пафос романа В. Андоновского — в отстаивании «непослушания», в котором — тайна творчества и движения вперед. Божественная и бунтарски-еретическая одновременно.
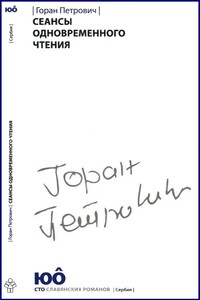
Это книга — о любви. Не столько профессиональной любви к букве (букве закона, языковому знаку) или факту (бытописания, культуры, истории), как это может показаться при беглом чтении; но Любви, выраженной в Слове — том самом Слове, что было в начале…