Военный переворот - [37]
Попробовав сметану, Маша встала (я этого отчасти ожидал):
— Вся скисла. Называется сметана! Пойду сейчас устрою им скандал.
Она пошла к кассирше: "Что такое? — вы скажете, нам это есть велят?"
В ответ кассирша пухлою рукою спокойно показала на халат:
— Одна бабуся мне уже плеснула: мол, горькая, мол, подавись ты ей! Не нравится!… А я при ней лизнула — нормальная сметана, все о-кей!
— Ну, это сильно. Спорить я не стану, — покорно произнес мой идеал и вдруг: "Друзья Не стоит брать сметану!" — на весь буфет призывно заорал. И мне (а я, на все уже готовый, шел рядом с ней, не попадая в шаг):
— Я говорила? — я сама в столовой работала. Я знаю, что и как!
"Да, похлебала!" — думал я в печали. Мне нравился её скандальный жест. Нас всех в единой школе обучали. А как иначе жить? Иначе съест!
Мы втиснулись в горячий, душный тамбур, где воздух измеряется в глотках. В вагоне гомонил цыганский табор в рубахах красных, в расписных платках. Я видел их едва не ежедневно: они по всем вокзалам гомонят — то приторно-просительно, то гневно — и держат за плечами цыганят.
Все липло к телу. В дребезге и тряске мы пробрались из тамбура в вагон. Она разговорилась — все об Аське. Тут все-таки она меняла тон, смеялась, даже в бок меня толкая: "Есть карточки — посмотришь? Вот и вот. Не толстая, а… сбитая такая. И шесть зубов. И колоссально жрет."
Я сумку взял — она дала без спора: вдруг нам стоять до самого конца? Народ начнет сходить ещё не скоро… Она рассказывала про отца, про жизнь в Чите, где всякого хватало, про всякие другие города, — поскольку по стране её мотало, как я успел заметить, хоть куда:
"Ну вот, к вопросу о житейской прозе. Чита — угрюмый город, захолу… Беременную, стало быть, увозят, и старший мальчик плачет на полу. На стуле муж, упившийся в сосиску, да главное — сама она в соплю. Хотят везти в роддом, а он неблизко. Она орет: "Не трогай! Потерплю!" И дальше алкогольный бред кретинки. Собрали вещи, отвезли в роддом — орала, билась: "Где мои ботинки?!" Ну, отыскали их с большим трудом. Она их подхватила и сбежала — буквально чуть уже не со стола. Представь себе, так дома и рожала. И знаешь, все нормально — родила!"
И, радуясь, что поезд проезжает хоть пять минут, а под горой, в тени, — да, думал я, они легко рожают, — ещё не уточняя, кто они.
Они вокруг сидели и стояли — разморены, крикливы, тяжелы. Из сумок и пакетов доставали хлеб с колбасою, липкой от жары, черешню, лук, бутылки с газировкой… И шлепали вертящихся детей, и прибывали с каждой остановкой, теснясь все раздраженней, все лютей… Обругивали — кстати ли, некстати ль, — друг друга в спорах, громких испокон… Листали замусоленный "Искатель" возможно, "Человека и закон"… И в гром состава, мчащего по рельсам, минующего балки и мосты, вплетались имена "Зайков" и "Ельцин", знакомые уже до тошноты.
Стоп! Разве в этих, в старых или в малых — родных не вижу? Я ли не как все? Я сам-то, что ли, вырос на омарах? Да никогда! На той же колбасе. И то резон — считать её за благо… Не ваш ли я звереныш и птенец? Какого я не в силах сделать шага еще, чтоб с вами слиться наконец? Да сам я, что ли, склонен жить красиво?! Я сам — из той же злобы и тщеты, того же чтива и того же пива (и слава Богу, что не из Читы!). Ужель мне хода нет и в эту стаю? Чем разнится от века наша суть? Не тот же ли "Искатель" я листаю, не в тех ли электричках я трясусь? Но, помнится, от этого расклада мне никуда не деться с ранних лет…
И нам под вас подлаживаться — надо.
А вам под нас подлаживаться — нет.
…С рожденья мне не обрести привычки к родной, набитой, тесной, сволочной, обычной подмосковной электричке. К обычной, а особенно к ночной. К тем пассажирам — грязным и усталым, глотающим винцо, ходящим в масть. К безлюдным, непроглядным полустанкам, где не фиг делать без вести пропасть, под насыпью, под осыпью, в кювете, без имени, без памяти, в снегу… Я многого боюсь на этом свете, но этого… и думать не могу.
…И все-таки, как беженец из рая, опять уйдешь, опять оставишь дом, насильно в эту жизнь себя внедряя, чтобы не так удариться потом. Ведь сколько эта пропасть ни безмерна, сколь яростно о ней не голоси, — но как тонка, как страшно эфемерна граница между миром — тем и сим…
То ль действовала долгая дорога, дух пота и дешевого вина, — но внутренняя тошная тревога по мере приближенья Чухлина росла, росла, ворочалась… Не скрою (хотел бы, да не выйдет все равно), соприкасаться с жизнию чужою мне до сих пор непросто…
Чухлино.
Нет, станция была обыкновенна, — трава, настил дощатый, тишина, домишко с кассой, — словом, не Равенна, но очень хорошо для Чухлина. "Да полно, — думал я, ломая спички и отряхнув рассыпанный табак, — вдруг и в Равенне те же электрички? А как без них? — наверное, никак."
В автобусе, идущем от поселка, с намереньем приобрести билет я вынул кошелек, застежкой щелкнул и обнаружил: денег больше нет. Хотя за счет любимой ехать тяжко, я произнес, толкнув её плечом:
— Пожалуйста, купи билеты, Машка! Потом верну, с процентами причем.
Я повернулся в давке правым боком (я так и ехал — с сумкой на боку):
— Я, знаешь, нынче в кризисе глубоком… Достанешь деньги-то? Мерси боку…
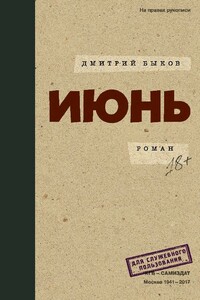
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».
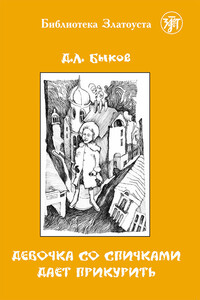
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.
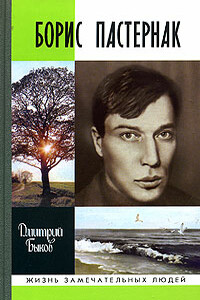
Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.