Внутренний строй литературного произведения - [64]
Теперь перед нами – лишь словесный звон, имитация чего-то досадливо-неотвязного. Как выяснится из следующего письма – того, что отвлекает понапрасну, побуждая упустить главное: «И я-то где был, – корит себя Макар, – чего я тут, дурак, глазел (…) и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто я прав, как будто и дело до меня не касается; и еще за фальбалой бегал!..» [1, 107].
Однако к концу этого же письма (последнего!) смысл причудливого словечка все же прорезывается, осознается по-новому точно и широко: «Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка – фальбала; она, маточка, фальбала-то – тряпица [1, 108].
Противоположение понятий тряпка и жизнь человеческая создает формулу, вбирающую в себя все напряжение трагического финала. Слово, подводящее к этой формуле – фальбала, – в «Бедных людях» (в отличие от некрасовского словоупотребления) закономерно выпадает из соответствующей ему семантической сферы. Но для того, чтобы процесс коренного переосмысления мог совершиться, упомянутое словечко по самой своей генетике должно бы литературным. В его основе – словоупотребление акцентированное, осложненное авторской игрой. Как и в шутливой поэме Пушкина, где о героине сказано,
Итак, с нашей точки зрения, в «Бедных людях» налицо – мини-цитата из «Графа Нулина», след имплицитной реминисценции. О ее художественном смысле будет сказано ниже. Пока же – еще о признаках, убеждающих в ее подлинности. Они, в конечном итоге, связаны с теми общими законами, которые обнаруживаются в развитии литературного процесса.
«Взаимодействие художественных текстов и писателей в процессе исторического развития культуры, – сказано в исследовании З.Г. Минц, – следует рассматривать не как однонаправленный процесс, в котором одна сторона активна, а другая занимает исторически пассивную позицию, а как диалог, процесс двусторонне-активного взаимодействия».[209]
Отсюда – особое свойство реминисценции, отличающее ее от случайного совпадения. Вторичное упоминание фрагмента художественного текста не только зависит от первоначального (обусловлено им); оно сообщает первоначальному некий заряд обратной энергии, создает для прежде сказанного новую подсветку.
В нашем случае результат этой подсветки особенно заметен, поскольку у Пушкина употребление слова фальбала сопряжено со своеобразной «маскировкой». Ее источник в самих законах языка, а именно в тех его свойствах, которые обретает имя собственное, если оно возникает на основе нарицательного. В этом случае предметное содержание, унаследованное им, перестает осознаваться. У Пушкина это редуцирование тем полнее, что при начале перехода стоит образование иноязычное – слово, предметное значение которого в новой языковой среде сразу ослаблено.
Воскрешение фальбалы в «Бедных людях», с какими бы странностями оно ни было сопряжено, возвращает пушкинскому упоминанию его предметный смысл. Одновременно высвечивается намек на близость «благородного пансиона» к модной лавке, а с ним – и сомнения в аристократическом происхождении его владелицы.
Правда, пушкинскую иронию можно истолковать и в несколько ином смысле, услышав в фамилии Фальбала указание на характер воспитания, которое получают пансионерки. Контекст такого словоупотребления создает другая реминисценции (насколько мне известно, также до сих пор не отмеченная) – отсылка к тексту «Нулина» в «Мертвых душах».
Приведем гоголевский текст.
Речь идет о том, как велось хозяйство в доме Манилова. По этому поводу, замечает автор, можно было бы сделать множество разных вопросов. «Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо, а хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни; фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах (…). В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уж хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризиков, потом французский язык, а там уж фортепьяно. Разные бывают методы»[210]. Напомним пушкинское:

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
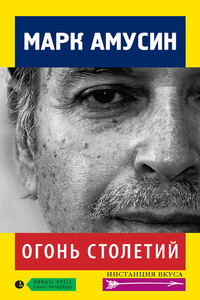
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)