Внутренний строй литературного произведения - [55]
(181; курсив мой – И. А.)
Пока же, не сливаясь с «обломками старых поколений», автор постигает их мироощущение через опыт ситуации, аналогичной их жизненной судьбе. Отсюда – объединяющая себя и других безличная форма символического финала:
Так смена форм лица воплощает иерархию расширяющихся смыслов. Вглядевшись в нее, понимаешь поэтическую технологию того, о чем в свое время писал И. С. Тургенев: «…каждое из его стихотворений начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления».[176].
Путь от впечатления к философскому выводу отражает структура стихотворения «Я лютеран люблю богослуженье…» Пафос субъективности восприятия, декларированный зачином, очень быстро растворяется в раздумье об общечеловеческой судьбе. Локальный образ «сих голых стен, сей храмины пустой» (обратим внимание на высокое, но конкретизирующее «сих», «сей») перерастает в миф об уходящей от человечества вере:
В мистерии общих судеб человечества не осталось места личности с ее пристрастиями (а ведь вначале звучало именно пристрастное: «люблю»). Я отступило перед ходом не зависящих от него событий, сменилось проповедническим вы. Тот, от кого исходит грустное и строгое: «Но час настал, пробил… Молитесь богу…», ощущает себя носителем внеличной Истины. В свойственной ему отчужденности от среднечеловеческого он сродни тому, кто повествовал миф «Примет». И все же проповедническое вы (уже в силу жанровой своей природы) предполагает более явное, чем у Баратынского, выражение заинтересованности, большую свободу эмоций – хотя бы обличительных, гневных.
«Не то, что мните вы, природа», – так начинается одна из самых известных тютчевских инвектив. Это ораторское слово, которое самим строем своим демонстрирует невозможность взаимопонимания с теми, кто «живет в сем мире, как впотьмах».
Явный знак окончательного разрушения связей – переход от вы к они:
Ощущение глухой непроницаемости тех, к кому первоначально была обращена речь, поддерживается всем комплексом отрицательных конструкций. Скрещиваются две линии противоположно направленных сил отрицания: люди не видят природы, и сама она активно избегает их. Так закрепляется то общее ощущение неконтактности, о котором сигнализировала смена лиц и которое в финале воплотится в образе, конкретном и обобщающем:
«Глухонемой» здесь – лицо собирательное. Переход от множественного они – к единственному отмечает высшую степень, генерализации – слияния многих и многого в одном все покрывающем символе.
Суть, разумеется, не в форме третьего лица как такового. Важен характер речевых изменений, читающихся в контексте стихотворения. Само по себе третье лицо у Тютчева может быть вполне свободным от отрицательных эмоций. Этот тип речи естественно возникает у него в процессе лирического повествования, («Гус на костре»), реже (хотя и такое повествование у Тютчева не часто) – в ходе изложения некой отвлеченной мысли («Две силы есть, две роковые силы…»). Редко– ибо тютчевское философствование эмоционально, ораторство темпераментно. Всем строем стихотворения Тютчев зачастую, действительно, имитирует ораторскую речь, отсюда разнообразие форм и изменчивость ее течения[177].
Существует, однако, такая содержательная сфера, соприкосновение с которой вызывает у Тютчева достаточно устойчивое (и вполне свободное от отрицательных эмоций) третье лицо. Это мир природы. Окрашивая его в тона собственных настроений, Тютчев тем не менее не декларирует поэтического произвола. Его природа довлеет себе. Человек тянется к стихии, но «природа – сфинкс» не слышит человеческих вопросов, не выдает своих тайн. Отсюда – особая замкнутость тютчевских пейзажных миниатюр. Большая часть тех из них, что написаны в 30-е годы, выдержана во внесубъектной манере, в форме третьего лица. Местоимения в стихотворение этого типа вообще крайне редки. Поэт создает мир на минимуме текстового пространства, предметы, как правило, берутся сразу в главном их качестве, т. е. упоминаются лишь один раз («Успокоение», к примеру).
Цепь местоимений вырастает, если стихотворение представляет художественное осмысление объекта локального, но данного крупным планом. Так строится знаменитый «Фонтан». Первая строфа являет собой описание, организованное неличным – он. Зато во второй – объект изображения обретает положение его героя, отстраняющее «он» сменяется интимным «ты», «твой».

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
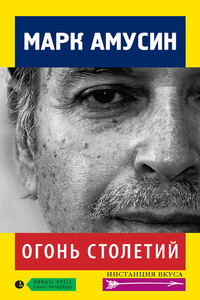
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)