Внутренний строй литературного произведения - [46]
Погружение в текст ставит читателя перед непредвиденным фактом. Безукоризненно завершенное, замкнутое стихотворение «противится» прекращению процесса чтения. Форма миниатюры заставляет обостренно почувствовать тот эффект восприятия лирики, с помощью которого значительно ослабляется воздействие линейного развития темы, свойственное литературе как роду искусства. Последовательность постепенного узнавания заменяется ощущением, близким одномоментности. Оно достигается прежде всего за счет того, что стихотворение, особенно небольшого объема, читается, как известно, не только от начала к концу, но и повторно тут же – от конца к началу. Естественно, сказанное относится и к отмеченной нами миниатюре. Ее финальное двустишие подключается к названию и первым строкам стихотворения тем более органично, что опору для слияния дает не только формальный, но и содержательный фактор – субстанция осеняющего произведение мифа.
Согласно этому мифу полдень– время священное. В этот час отдыхает сам Великий Пан – бог долин, стад и пастухов. Магия его дремоты заражает все вокруг. Именно такое «заражение» – проникновение мифа в строй обычных природных явлений – передает стихотворение. Передает с тонкостью поистине гениальной. Адекватно перевести ее на язык аналитической прозы вряд ли возможно. И все же попытаемся дать хотя бы некоторое представление об основах этого волшебства.
Итак, финальное двустишие миниатюры мгновенно «цепляет» ее первую строку. Подключается к ней в точном смысле слова, если так можно выразиться, лексически. Ведь «лениво дышит» гораздо легче соотносится с представлением о дремоте живого существа, чем с упоминанием определенный поры дня. Одновременно с помощью того же сцепления корректируется и выражение «полдень мглистый». Слабеет элемент той отвлеченности, которая обычно присуща понятию.
Так покойно дремлющий Пан и лениво дышащий полдень оказываются едва ли не побратимами. Полдень, чье именование (или имя?) вынесено в заглавие, – природное преломление Пана, один из его двойников. Слившись воедино, оба они заражают все вокруг магическим бессилием. Отсюда – и неожиданный, на первый взгляд, эпитет «Полдень мглистый». Он оправдан, поскольку речь идет не о красках «тверди пламенной и чистой», но об особом психологическом состоянии – том дурмане расслабленности, которая будто висит в воздухе.
Лень, естественная и одновременно сверхреальная, – аура этого часа. Слово «лениво», сразу поставленное под акцент инверсионным своим положением, заданное как анафора, повторенное на пространстве миниатюры трижды, создает ту линию общей тональности, которой будто вообще не свойственно прерываться. Она прошивает собой все описания действий – так, что они теряют присущий глагольным формам энергетический напор, уподобляясь неспешно протекающим состояниям. Река «катится» – т. е. движется вся, целиком, без ряби неравномерного течения. Облака «тают» – исчезают столь неуловимо, что ни глаз, ни сознание не фиксирует изменения их формы и величины. Мир застыл, объятый «жаркой дремотой». Однокоренное слово «дремлет» возникает и в последней строке, при упоминании Великого Пана. Заметим, – упоминании единственном, но создающем подтекст всего стихотворения. Картина, представленная в нем, и миф, ее одухотворяющий, слиты нераздельно.
В стихотворениях, подобных «Полдню» или «Весенней грозе», Тютчев противостоит известной декларации Фридриха Шиллера «Боги Греции». Немецкий поэт и теоретик, придававший эстетическому фактору колоссальную роль в развитии человечества, был тем не менее уверен: потеря античности уводит из современности источники подлинной красоты. Тютчев, вопреки Шиллеру, убежден: зародыши прекрасного, слитые с античностью, не просто нетленны; они обладают живородящей силой. Как и сама природа – родник традиционных и постоянно варьирующихся сюжетов.
У Тютчева такие сюжеты положены в основание стихов, близких к календарным мифам («Весенние воды», «Зима не даром злится…»). Но определять их только по этому признаку было бы недостаточно. Произведения содержат и приметы несколько иного «родства»; они граничат с календарно-обрядовой поэзией. В «Весенних водах» не случайно упомянут «тихих, теплых, майских дней / Румяный светлый хоровод». Стихотворение «Зима недаром злится» соприкасается с ритуалом поношения зимы, ее вытеснения из природного и человеческого «порядка бытия».
В силу всего сказанного анализ этих произведений требует сопоставления с фольклорными текстами. Не имея возможности сейчас заниматься исследованиями такого рода, оставим пока эти произведения в стороне и обратимся к тем вещам, которые представляют сердцевину индивидуальной мифологии поэта.
Для Тютчева она сосредоточивается прежде всего в произведениях, которые можно было бы назвать стихами ночной темы. В той или иной мере о них говорят авторы всех работ о поэте.
Наиболее развернутый анализ этих произведений находим в сравнительно недавней книге И. Непомнящего «О, нашей мысли обольщений…» (о лирике Ф. И. Тютчева». Брянск, 2002). Автор рассматривает ночные стихи как составляющее несобранного поэтического цикла. Сам же цикл исследует строго хронологически, в аспекте своих представлений об эволюции поэта.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
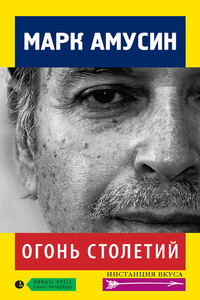
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)