Внучка панцирного боярина - [5]
Сделалась аксиомой пословица: «скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков». — Не менее верно замечание: введи меня запросто, по-приятельски в свое жилище, и я загляну в твою душу, расскажу твой образ жизни, твои наклонности. Так и здесь: Сурмин, оглядев комнату, мог дополнить характеристику хозяина, мысленно еще только очерченную в первый час знакомства с ним.
Стол, покрытый черной клеенкой, придвинут к окну; на нем скромный письменный прибор и артистический пресс-папье из матовой бронзы: это была группа Лаокоона и детей его, обвитых Змеем-Роком, который душит их и с которым отец, напрягши мышцы, борется до последнего издыхания. Тут же вазочка, настоящий vieux Saxe.[1] Так и срывает с ваших уст улыбку шаловливый рой пригожих, полунагих детей, на ней изящно написанных. В вазочке свежий букет скромных садовых и полевых цветов, со вкусом и гармонически подобранный. Перед столом глубокое, мягкое кресло, на котором зеленый сафьян уже от времени порыжел. Из окна через стол лоснится зеркало Пресненского пруда, оправленное в раму бархатного газона и разнообразной зелени дерев. На ближайшем берегу к маститому, мускулистому вязу привязана красивая лодка с разноцветным флагом, который от ветерка— то лениво потягивается, то бьется о мачту словно крылом. За Горбатым мостом видны извилины Москвы-реки. На левом от зрителя берегу ее нагромождены плоты и груды леса, на правом из густой кущи дерев выглядывает богатая усадьба какого-то купца. Далее, проведя глазом прямую черту по разрезу реки — Воробьевы горы, дача графа Мамонова, Александрийский дворец; еще далее, сквозь туман поднявшейся над Москвой пыльной атмосферы видны едва очерченные крыши деревеньки и небольшие купы рощ; так и хочется перенестись в них из душного города. Здесь стук, шум, тревога; здесь дышешь тлетворными миазмами, а там должно быть тихо, прохладно, груди так легко впивать в себя струи чистого воздуха. Правее, за Даргомиловской заставой, широкой лентой убегает в сизую даль так называемая шоссейная смоленская дорога. При взгляде на нее, из глубины души вашей встают великие воспоминания. К одной стене комнаты прижался большой мягкий диван. У локотника его лежит канвовая подушка, на которую брошен пышный букет, резко выдающийся свежестью своих красок на ветхой коже дивана. Хочется обонять эти цветы, ждешь, что вот слетит с них пчела и зажужит по комнате, — так художественно выполнены шерстью цветы и пчелка. Повыше дивана, в гравюрах, портреты Петра I, Екатерины II, Вашингтона, Франклина, Вальтер Скотта, Шиллера и доктора Гааза. На противоположной стене живописный портрет офицера средних лет, в семеновском мундире александровских времен. Рядом акварельный портрет молодой красивой женщины, обвитый венком из иммортелей, другой, фотографический, более молодой женщины, к которой можно тотчас признать дочь хозяина, и третий, такой же, юноши в юнкерском пехотном мундире. Все, что любит старик, что дорого его сердцу, собрал он вокруг себя. В одном углу — кровать, на железные изогнутые столбики ее накинут снежной белизны чехол из марли, обшитый домашними кружевами. Сквозь сетку его не проникнуть ни докучливой мушке, ни трубачу-комару. Такие походные железные кровати с чехлом разбивают английские офицеры и путешественники в знойных странах, не боясь ни москитов, ни тарантул. Близ кровати небольшой образ без оклада Божьей Матери с Предвечным Младенцем и порхающими над ними ангелами, писанный художнической кистью. Над шкафом, как я сказал, будто в изгнании, живописный, средней руки, портрет какого-то рыцаря с гордой осанкой, в панцире. Резкие, суровые черты его, черные, большие усы, глаза, пронизывающие вас насквозь, так и выступают из полотна. Можно бы пугать им детей; в душе взрослого он возбуждал неприятное чувство. В соседней комнате голосисто разливается канарейка, над потолком воркуют голуби. Когда они слишком заговаривались и мешали хозяину и гостю слушать друг друга, Ранеев замечал:
«Не взыщите, сами поселились на чердаке, вольная колония! Пускай себе живут, благо им хорошо, а нам теснее не будет».
А если они уж слишком посягали на терпение его, то ему стоило только постучать в потолок тростью, чтобы они замолкли, точно понимали его. В семью мебели разве еще включить членов-челядинцев: маленький диван, обитый скромным ситцем, перед ним овальный орехового дерева столик, да четыре, пять стульев. Все это успел быстро занести в свои соображения Сурмин, усаженный на почетное место дивана.
— Да у тебя новые очки, — сказала Лиза, — поздравляю тебя с покупкой, ты был без них как без глаз. Дай-ка, попробую их на себе. Ведь я тоже близорука, настоящая папашина дочка, — прибавила она, обращаясь к Сурмину, сняла с отца очки, надела на свой греческий носик и кокетливо провела ими по разным предметам в комнате, не минуя и гостя.
— Дитя, — подумал было Сурмин, смотря на ее шаловливые движения.
— Совершенно по глазам моим, — сказала она, — папаша позволит, так я и сама начну носить очки и заговорю с кафедры.
— Ну, на это бабушка надвое говорит, — возразил Ранеев.
Возвращая очки отцу, она заметила у него знак раны над бровью.

События «громового 1812 года» послужили переломным моментом в жизни и творчестве Лажечникова. Много позже в автобиографическом очерке «Новобранец 1812 года» (1858) Лажечников расскажет о том, какой взрыв патриотических чувств вызвало в нем известие о вступлении французов в Москву: оно заставило его бежать из дома, поступить вопреки воле родителей в армию и проделать вместе с ней победоносный путь от Москвы до Парижа.И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989 Художник Ж.В.Варенцова Примечания Н.Г.Ильинская Впервые напечатано: Лажечников И.И.
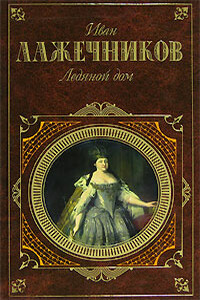
И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «…поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

В историческом романе известного русского писателя И.И. Лажечникова «Последний Новик» рассказывается об одном из периодов Северной войны между Россией и Швецией – прибалтийской кампании 1701–1703 гг.
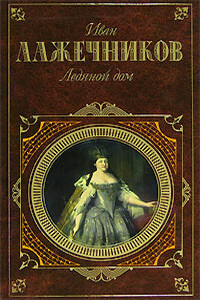
И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «…поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) широко известен как исторический романист. Однако он мало известен, как военный мемуарист. А ведь литературную славу ему принесло первое крупное произведение «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов», которые отличаются высоким патриотическим пафосом и взглядом на Отечественную войну как на общенародное дело, а не как на «историю генералов 1812 года».Сожженная и опустевшая Москва, разрушенный Кремль, преследование русскими отступающей неприятельской армии, голодавшие и замерзавшие французы, ночные бивуаки, офицерские разговоры, картины заграничной жизни живо и ярко предстают со страниц «Походных записок».

Племянница Петра Великого Анна Иоанновна вступила на российский престол в начале 1730 года. Время её царствования – одна из самых мрачных эпох в русской истории, получившая название «бироновщина». Всеобщая подозрительность, придворные интриги, борьба за власть послужили материалом М. Н. Волконскому, П. В. Полежаев и И. И. Лажечникову для написания романов, составивших эту книгу.Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления императрицы Анны Иоанновны.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
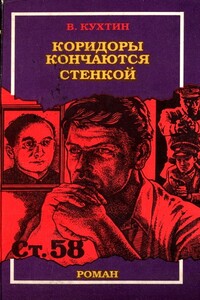
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.