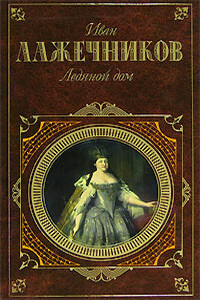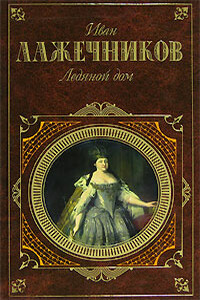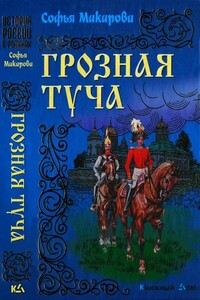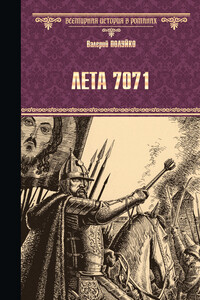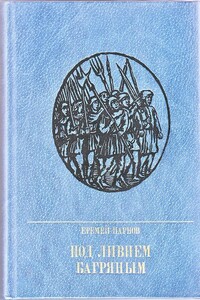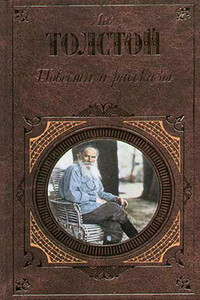Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Пушкин
Поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц
томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные
ночи,
Все вместе ожило; и сердце
понеслось
Далече…
Он же
Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-егермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне Святок (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского?
Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, поодиночке, много по двое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплечного мастера. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!
Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков.
– Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее… – выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий или, лучше сказать, превысокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно бы показывать на Масленице в балагане, – гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцуя невольно под щипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным, узорочным перилам. Легкие, как Меркурии, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым панашом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок, то пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъявляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы, – говорила старушка, – не знали одышки, оттого-де, что легкие у них вытравлены были зелиями. А одежа, одежа, мое дитятко, вся, как жар, горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнет ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкою заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь маршалок[1] рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой! опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полутораста пар, из которых нет одной, совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком; перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засуеченная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его.
Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, ее стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.