Влас Дорошевич. Судьба фельетониста - [3]
Она пошла по стопам отца, до войны печаталась в журналах «Огонёк», «Пограничник», «Работница», в газете «Вечерняя Москва» (сначала под псевдонимом Наталья Власова, а затем и под своим именем), работала в московской газете на французском языке «Журналь де Моску», в последние годы жизни публиковала фельетоны в газете «Труд». Состояла в группкоме при Союзе писателей. Хорошо знавший ее Василий Катанян, сын известного литературоведа, биографа Маяковского, и пасынок Лили Брик, вспоминал о ней: «Это была крупная, высокая, красивая женщина. Умная, образованная, циничная, хитрая и спокойная <…> Наталья Власьевна была журналисткой, но в те годы (1930-е. — С.Б.) не могла, конечно, писать в едком сатирическом духе, как когда-то ее отец, но взгляды его она унаследовала. Меня, мальчика, всегда пугали ее рассуждения о существующих порядках, о репрессиях, о Сталине, о топорной пропаганде»>[7]. Наталья Власьевна была замужем за известным в предвоенные годы штангистом Дмитрием Поляковым. Ее дочь Наташа, по рассказу Катаняна, родилась от другого человека, но близость с Поляковым сохранялась.
Диссидентский дух («гены инакомыслия», по выражению Катаняна) Натальи Власьевны передался и ее дочери Наташе: «Взгляды матери и дочери одни и те же, только дочь пошла дальше — время другое». Будучи сотрудницей Министерства внутренних дел, рассказывает тот же Катанян, она, при поддержке начальника школы МВД С. М. Крылова (он впоследствии застрелился, это была громкая история), размножала и распространяла — дело было в конце 1970-х — начале 1980-х годов — антисоветскую литературу, за что поплатилась изгнанием с работы и разжалованием. Смертельная болезнь спасла ее от суда. Внучка Дорошевича Наталья Дмитриевна умерла от рака в возрасте сорока двух лет в 1983 году.
Когда я в 1966 году, будучи солдатом срочной службы и студентом-заочником, писавшим дипломную работу по Дорошевичу, пришел на улицу Качалова, мне открыла дверь молодая, симпатичная, высокая женщина, моя ровесница. Естественно, я рвался посмотреть, осталось ли у нее что-то из бумаг, связанных с дедом. Наташа сказала, что есть что-то на антресолях, но сейчас ей заниматься этим некогда. Она не отказывала, была вполне доброжелательна и попросила позвонить через несколько дней. В повторный мой визит на улицу Качалова из антресолей была извлечена большая коробка с бумагами и фотографиями. Документов было, кажется, не очень много, но и времени у меня было мало. Запомнилось, что видел записку Василия Ивановича Немировича-Данченко к находившемуся в санатории под Петроградом Дорошевичу (лето 1921 г.), извещавшую о передаче ему цветных карандашей, и ходатайство Луначарского о помощи с устройством на работу Натальи Власьевны. Может быть, еще раз или два я побывал у Наташи Дорошевич. Тогда же узнал, что она работает в детской комнате при милицейском отделении. Впоследствии у нас контактов не было, хотя я и послал ей вышедшую в 1975 году книгу «Судьба фельетониста». И, конечно, я не догадывался, что она, офицер милиции, была заражена диссидентским духом. Знал бы — пришел бы к ней в один из своих постоянных наездов в Москву в 70–80-е годы. Потому что уже с середины 60-х заражен был если не тем же духом, то, несомненно, бациллами вольномыслия, питавшегося в том числе и от общения с московской писательницей Инной Варламовой, приятельницей Льва и Раисы Копелевых, Фазиля Искандера, Инны Лиснянской и Семена Липкина и других порядочных людей из литературного мира, попавших в опалу за свою гражданскую позицию.
За 19 лет до смерти Наташи от той же страшной болезни умерла ее мать Наталья Власьевна. Она мужественно держалась до самого конца. «Вечером, — рассказывает Катанян, — она сама позвонила Арию Давидовичу, который занимался похоронами в Союзе писателей, и сказала, чтобы он приезжал утром»>[8]. Буквально за две недели до ее ухода писатель Владимир Лидин привел на квартиру к ней двух стенографисток Литфонда СССР, и она продиктовала свои воспоминания об отце (работа была закончена 21 марта, а умерла она 6 апреля 1955 г. совсем не старым человеком, ей было всего пятьдесят лет). Впоследствии Лидин частично опубликовал их в журнале «Простор»>[9], один экземпляр полного текста (более трехсот страниц машинописи) отдал в Рукописный отдел Ленинской библиотеки, а другой попал в ЦГАЛИ. «Страницы этой книги о Власе Дорошевиче, — писал он, — воскрешают не только его образ, но и целую эпоху: в записках говорится о Рахманинове, Собинове, Шаляпине <…> Это была страстная и даже пристрастная книга: Наталья Власьевна любила своего отца и была в тяжелом разрыве с матерью — артисткой К. В. Кручининой, работавшей под конец жизни в театре Ленинского комсомола.
Стенографическая запись обычно бывает несовершенна и требует литературной обработки; но большинство страниц книги Н. В. Дорошевич в такой обработке не нуждалось: так они совершенны по стилю и образности»>[10].
Мы еще не раз будем возвращаться к запискам Натальи Власьевны, кстати, до сих пор целиком не изданным. А пока следует сказать о том, что она действительно была предана памяти своего отца. С конца 1930-х годов произведения Дорошевича были исключены из читательской сферы, его не переиздавали, поскольку в дефинициях тогдашних энциклопедических справочников за ним укрепилась отнюдь не способствующая продвижению к читателю характеристика — «рус. бурж. писатель и журналист». Наталья Власьевна пыталась преодолеть это идеологическое клеймо. 9 июля 1950 года она обратилась с письмом к Сталину, в котором стремилась подчеркнуть, что творчество отца не устарело: «Между тем о Дорошевиче с интересом говорят в журналистских и писательских кругах, его хорошо помнят представители старшего поколения советской интеллигенции. Немногочисленные его книги, имеющиеся в библиотеках, постоянно читаются. Два-три раза в год имя Дорошевича мелькает в ссылках на позаимствованные описания или остроты, а это немало для журналиста, уже более трех десятилетий сошедшего с газетных страниц <…> Ведь он был крупной фигурой в той плеяде талантливых русских журналистов, из которой вышли Горький и Чехов. Творчество его — оригинальное, самобытное явление периода предреволюционного обострения классовой борьбы. Никогда не был он ни мракобесом, ни ретроградом. Никогда его перо не было продажным. С едкой сатирой, с непомеркшим еще остроумием высмеивал он темные, уродливые черты своего времени, умел показать лицо хищного, воинствующего и разлагающегося капиталистического мира <…> Со слов А. М. Горького и А. В. Луначарского мы в семье знаем, что в последние годы жизни судьбой и работой Дорошевича интересовался В. И. Ленин»

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
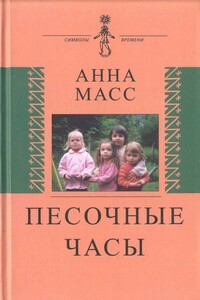
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
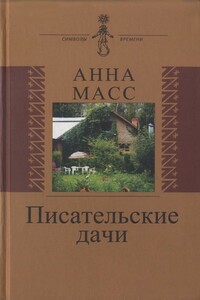
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
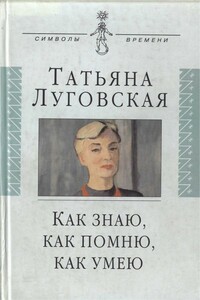
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.