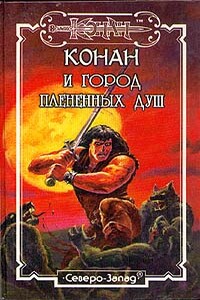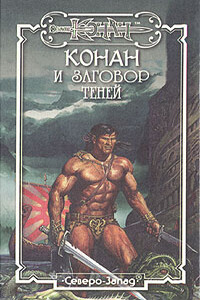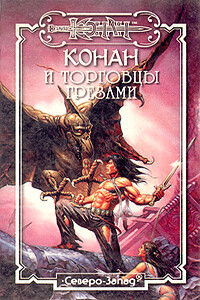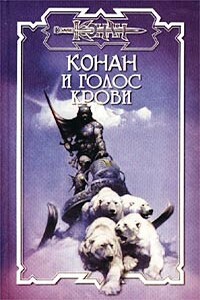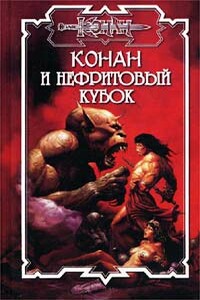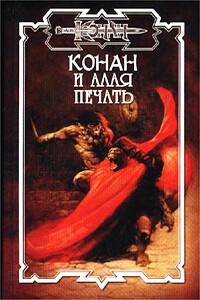Мхете, может быть, и величественная, но в этих местах больше напоминавшая загнивший ручеек, воды несла соленые, так что людям пришлось проглотить сухой ком в горле и возлелеять надежду на источник либо — на милость туземцев, у коих наверняка имелись способы добыть пресную воду.
Вопреки уверениям Клеменсины первые хижины показались только к полудню, когда лошади совсем выбились из сил. Несчастный Трилле стонал в героических попытках скрыть от товарищей дикий ужас, охвативший его при виде глинобитных остроконечных жилищ дикарей, ерзал в седле и остервенело кусал костлявый кулак.
Конан безмолвствовал. Его, кажется, сейчас вовсе ничто не волновало. Занятый какой-то своей, очень важной мыслью, он не отвечал на редкие вопросы спутников и вообще вел себя довольно странно: ни разу проклятие не сорвалось с его уст, ни разу раздраженный взор не опалил холодом беспрестанно скулящего Повелителя Змей, ни разу пятка кованого сапога не вонзилась в шелковый бок усталого вороного. Впрочем, сапоги все трое сняли еще до рассвета, а потом, утомленные долгим путешествием и жарой, сорвали с себя и лишнюю одежду. Но и в одних пропыленных, заляпанных жирными и винными пятнами штанах киммериец выглядел воистину величественно — огромный, синеглазый, с буйной гривой длинных черных волос, он словно бог, сошедший с небес на бренную землю, воздвигся в седле могучего, под стать ему, вороного коня и теперь сумрачным взглядом обозревал окрестности, сожалея о том, что не участвовал в их создании.
В самом деле, удивительная красота открылась здесь странникам. После восхода солнца они узрели и тонкие станы пальм, раскинувших широкие листья во все стороны света, и песчаную ярко-желтую косу, отходящую от Мхете и тянущуюся далеко на север, и островки нежной зеленой травы, меж коими земля была чернее черного и наичернейшего (многое могла уродить такая земля, но Конан знал, что туземцы сеют на ней только маис, ибо иных культур не ведают). Даже Трилле несколько оживился, заметив в зелени пальмовых листьев крупные волосатые орехи, а на мощных стволах баобабов неизвестных ему дотоле зверей, чем-то напоминающих обезьян и, возможно, съедобных.
Очень скоро выяснилось, что обезьян ему напомнили именно обезьяны: в первые мгновения эти омерзительные твари присматривались к спутникам, безуспешно пытаясь определить, какого они племени и почему у каждого посередине морды вызывающе торчит нос, тогда как у всякой порядочной гориллы он должен быть приплюснут, а затем, разом воинственно заорав, начали обстреливать их волосатыми орехами, столь восхитившими Повелителя Змей поначалу и оказавшимися при более близком знакомстве весьма неприятной тяжести и твердости.
Злая судьба в сем случае распорядилась несправедливо: все до единого снаряды попали в Трилле, а Конан и Клеменсина не получили даже легкого касательного ранения. Может быть, следовало бродяге задаться вопросом — почему боги столь жестоки к нему? — и в ответ понять некоторые необходимые истины, но его сейчас более занимали страдания по поводу собственной, некогда милой, а теперь испорченной внешности. На лбу его выросла невероятного размера шишка, переливающаяся всеми цветами радуги и еще черным, под глазом багровел огромный синяк, нос был расплющен так, как и положено порядочной горилле, а верхняя губа распухла и красиво завернулась вверх. До полного великолепия Трилле не хватало только колец в ноздрях и перьев в волосах, но об этом — так смиренно думал он, отъезжая от коварной пальмовой рощи, — наверняка позаботятся дикари, кои вряд ли чем-либо особенным отличаются от обезьян.
Уже покорный судьбе, Повелитель Змей все же не оставил дурной привычки трястись и подвывать от ужаса. Он и сейчас занимался этим скучным делом, только тише прежнего. Иная мысль овладела им в сей момент, и мысли той было имя Жизнь. Вот — он, бродяга и жалкий трус, а вот его жизнь. Какой задумали ее боги и какой сотворил ее он сам в конце концов? Верен ли путь его? Верен ли следующий шаг? И — далее: есть ли истина в мире, переполненном жестокостью, страхом, ложью? Сохранилось ли место ее? И — еще далее: надобно ли жить в этом мире лично ему, такому никчемному существу, не умеющему ни в коей мере способствовать воцарению добра и благоденствия?
Философическая мысль Трилле унеслась в неведомые высоты, и теперь он не мог оформить ее словами даже в уме. Одно лишь сердце знало, о чем вести беседу с самим собою, и успешно продолжало взывать к богам, судьбе и чему-то подобному, не названному еще человеком, желая познать непознанное дотоле никем, желая определить единственно свое предназначение и укрепить его в себе, дабы потом не заплутать вновь в потемках бытия. Синяки, шишки и ссадины ужасно болели; Трилле страдал, хотя и знал, что физическое мучение может и облагородить и подсказать правду, выделить в суете мирской искомое. «Что ты есть, Жизнь?» — в тоске вопросил бродяга, задрав подбородок и направив единственный уцелевший глаз к равнодушным небесам, голубеющим высоко. Но — не было и не будет ответа оттуда; никогда. Повелитель Змей быстро понял это и посему выдохнул из себя все важные мысли, отделил себя от будущего и снова слился с настоящим.