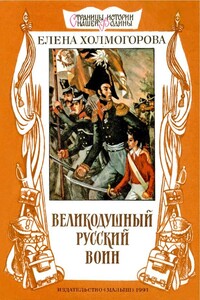Вице-император (Лорис-Меликов) - [5]
– А ты не ори! Тоже мне барин сыскался! Куда надо, туда гоню! А коров не пугай – не твои!
– Слушай, хватит ругаться! У меня беда. Мальчик пропал. Ты мальчика не видал, черненький такой, длинноногий?
– Сбежал, что ль? От такого сбежишь – и ног не почуешь! И давай проваливай отсюдова, всех буренок мне перебесил.
– Злой ты человек, пастух. У людей беда, понимаешь, а ты зубы скалишь. Ну как не стыдно?
– Да не видал, не видал я никакого мальчишку! Может, зря ищешь, у тебя дорог много, а у него всего одна. – Мысль эта невесть с чего развеселила пастуха. Позвал подпаска: – Гришка! Тут мальчонку ищут, может, видал?
– Не-а, дядя Федот, не видал.
– Ну вот, и Гришка не видал. А он зоркий и прыткий. Не было тут никакого мальчика! У него своя дорога.
– Тьфу, дурной! Бог тебя покарает! – Дядя Ашот обиделся и помрачнел.
С добрых полчаса они выбирались из ревущей массы животных. Следы, конечно, потерялись, затоптались, и они скакали вперед уже наугад. И конечно же проскочили. Вот уже десятая верста прошла, двенадцатая – мальчишки нет как нет. Пуста дорога.
Проехали еще с полверсты, и Леван сказал те слова, которые вот уж час мучили Ашота и которые он боялся произнести сам:
– Бесполезно. Заблудился Мико. По другой дороге пошел.
Наверно, надо было скакать во весь опор, мчаться, чтобы пустить в погоню всех слуг, направив на все четыре стороны. Но солнце так припекало, а мысли были так печальны, что Ашот и Леван отдались на волю Провидения и лень своих коней и ехали шагом, посматривая по сторонам. Еще через версту поворотили назад.
Жара стояла невыносимая, кони еле плелись, но вот вдали зоркий глаз Левана приметил черный бугорок на обочине; ни слова не говоря, Леван пришпорил коня, а дядя Ашот никак не мог справиться с разомлевшим своим одром. Зато когда пробудил коня, того понесло вперед, мимо Левана, зачем-то сошедшего с дороги. Да ясно зачем! В уютной ямке на обочине тихо спал Мико. Он так жалко съежился, утомленный солнцем и шестью верстами пешего пути. Плетка, предназначенная для спины беглеца, безвольно поникла в руке.
– Мико-джан! Нашелся!
Аудиенция
Бесхлопотных должностей не бывает. Начальник Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, шеф корпуса жандармов Александр Христофорович Бенкендорф[2] с какой-то стати должен теперь свое – нет, не свое: ничего своего у Александра Христофоровича, почитай, с декабря 1825 года не было – государственное время тратить на заботы о каком-то шалуне мальчишке, которого выгнали – и правильно сделали! – из Лазаревского института восточных языков, почетным попечителем коего и был Начальник Третьего Отделения С.Е.И.В. Канцелярии. Должность парадная, предполагавшая лишь редкие торжественные, как праздник, посещения и еще более редкое присутствие на экзаменах, да и то если случается бывать в Москве. Крамольных веяний, слава Богу, никакие ветры из этого армянского заведения не заносили, и московское дворянство радостью почитало воспитывать там своих отроков. Лазаревны составляли потом особую гордость Московского университета – нигде так хорошо не готовили к академической науке. И вот на ж тебе!
Александр Христофорович принял вид не свирепый, но строгий, отечески суровый, о чем доложило ему маленькое зеркальце, хранимое в ящике письменного стола и являвшееся на миг перед приемом любого лица, допущенного в кабинет. Вызвал адъютанта:
– Пригласите Лорис-Меликова Михаила.
– С сопровождающим?
– Нет, одного.
Весь последний месяц прошел в бесконечных выговорах и попреках, сожалениях и покаянных молитвах. Хотелось умереть и родиться заново и никогда больше в жизни не повторять ничего подобного. Но поздно, поздно… И не видать ему Московского университета как своих ушей. Приказ об исключении висит в институте в актовом зале на самом видном месте в назидание младшим ученикам и потомству. А ему вдруг, под самый выпуск, страстно захотелось учиться: он только-только вошел во вкус чтения трудных книг и радости понимания истин, казалось, никогда не доступных скромному уму. А в мире взрослых не осталось ни единого человека, кто бы не воспользовался злобной радостью упрекнуть, хотя на опекунском совете отнюдь не все голосовали за его исключение, были и заступники.
Зачем его привезли не в Тифлис, а сюда, в Петербург, Миша толком понять не мог. Дядя Ашот всю дорогу был с ним угрюм и молчалив, столичная родня встретила его все теми же выговорами и попреками, так что даже спрашивать о чем-либо бесполезно. И вот неделю спустя дядя Ашот привез его в знаменитое здание у Цепного моста. Вся империя трепещет, помянув этот особняк, один из красивейших в Санкт-Петербурге.
Благоговейная канцелярская тишь. Офицеры будто по воздуху летают – ни звяканья шпор, ни стука каблуков, подбитых сталью. И страх вползает в душу из входной двери, отворившейся навстречу. Ноги теряют силу в коленях. Тут мысль мелькнула, что потому и бухаются на колени перед грозным начальством, что ноги не держат. Мелькнула и исчезла – не место насмешке. Новая волна страха подавила ее. Лестничный марш одолевался, как гора Арарат. Дядя Ашот с трудом переводил дыхание – его тоже внезапный ужас одолел.
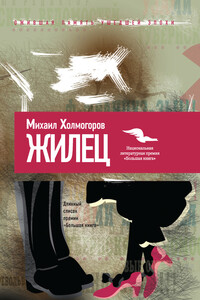
Изысканный филологический роман, главный герой которого – Георгий (Жорж) Андреевич Фелицианов, поэт и ученый, переживает весь ХХ век, от его начала до самого финала. Жорж – ровесник Юрия Живаго, они – представители одного и того же, «лишнего» для современной ушлой России поколения интеллигентов. Они – мостик от классики к современности, на свою беду, в искусстве они разбираются лучше, чем в людях и истории, которая проходит по ним красным колесом…Этот роман может стоять на одной полке с «Орфографией» и «Учеником Чародея» Дмитрия Быкова, с «Лавром» Водолазкина, с «Зимней дорогой» Леонида Юзефовича и в чем-то похож на «Виллу Бель-Летру» Алана Черчесова.
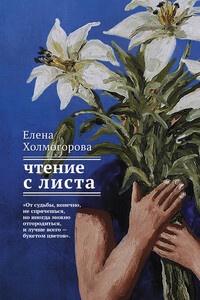
Репетиция любви, репетиция смерти, репетиция надежды, репетиция богатства, репетиция счастья… Жизнь героини выстраивается из длинной цепочки эпизодов. Как в оркестровой партитуре, в них одновременно звучат несколько голосов, которые только вместе могут создать мелодию. Они перекликаются и расходятся, что-то сбывается, а что-то так и остается в немоте, лишь на нотной бумаге…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
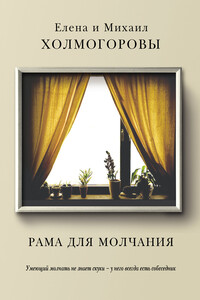
«Рама для молчания» – собрание изящных, ироничных, порой парадоксальных эссе, написанных как в соавторстве, так и поодиночке. О книгах, прочитанных в детстве, и дневниках Юрия Олеши; о путешествиях – от брянской деревни до просторов Колымы и о старинных московских особняках; о позитивном смысле понятий «тщеславие», «занудство», «верхоглядство» и даже «ночные кошмары».
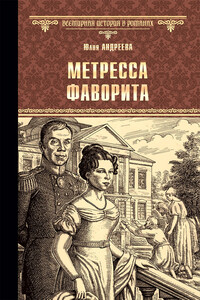
«Метресса фаворита» — роман о расследовании убийства Настасьи Шумской, возлюбленной Алексея Андреевича Аракчеева. Душой и телом этот царедворец был предан государю и отчизне. Усердный, трудолюбивый и некорыстный, он считал это в порядке вещей и требовал того же от других, за что и был нелюбим. Одна лишь роковая страсть владела этим железным человеком — любовь к женщине, являющейся его полной противоположностью. Всего лишь простительная слабость, но и ту отняли у него… В издание также вошёл роман «Плеть государева», где тоже разворачивается детективная история.
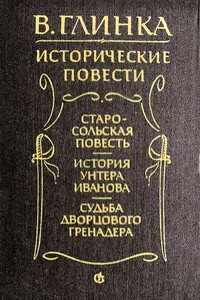
Повести В. М. Глинки построены на материале русской истории XIX века. Высокие литературные достоинства повестей в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII–XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.
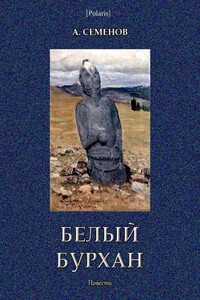
Яркая и поэтичная повесть А. Семенова «Белый Бурхан», насыщенная алтайским фольклором, была впервые издана в 1914 г. и стала первым литературным отображением драматических событий, связанных с зарождением в Горном Алтае новой веры — бурханизма. В приложении к книге публикуется статья А. Семенова «Религиозный перелом на Алтае», рассказ «Ахъямка» и другие материалы.
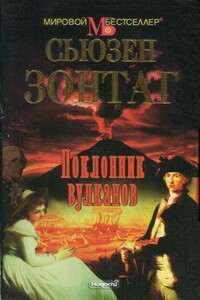
Романтическая любовь блистательного флотоводца, национального героя адмирала Нельсона и леди Гамильтон, одаренной красивой женщины плебейского происхождения, которую в конце жизни ожидала жестокая расплата за головокружительную карьеру и безудержную страсть, — этот почти хрестоматийный мелодраматический сюжет приобретает в романе Зонтаг совершенно новое, оригинальное звучание. История любви вписана в контекст исторических событий конца XVIII века. И хотя авторская версия не претендует на строгую документальность, герои, лишенные привычной идеализации, воплощают в себе все пороки (ну, и конечно, добродетели), присущие той эпохе: тщеславие и отчаянную храбрость, расчетливость и пылкие чувства, лицемерие и безоглядное поклонение — будь то женщина, произведение искусства или… вулкан.
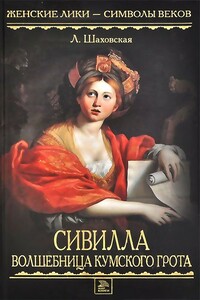
Княгиня Людмила Дмитриевна Шаховская (1850—?) — русская писательница, поэтесса, драматург и переводчик; автор свыше трех десятков книг, нескольких поэтических сборников; создатель первого в России «Словаря рифм русского языка». Большинство произведений Шаховской составляют романы из жизни древних римлян, греков, галлов, карфагенян. По содержанию они представляют собой единое целое — непрерывную цепь событий, следующих друг за другом. Фактически в этих 23 романах она в художественной форме изложила историю Древнего Рима. В этом томе представлен роман «Сивилла — волшебница Кумского грота», действие которого разворачивается в последние годы предреспубликанского Рима, во времена царствования тирана и деспота Тарквиния Гордого и его жены, сумасбродной Туллии.
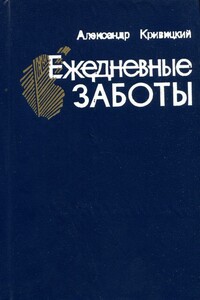
В новую книгу Александра Кривицкого, лауреата Государственной премии РСФСР, премии имени А. Толстого за произведения на международные темы и премии имени А. Фадеева за книги о войне, вошли повести-хроники «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года» и «Отголоски минувшего», а также памфлеты на иностранные темы, опубликованные в последние годы в газете «Правда» и «Литературной газете».
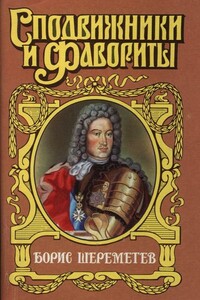
Роман известного писателя-историка Сергея Мосияша повествует о сподвижнике Петра I, участнике Крымских, Азовских походов и Северной войны, графе Борисе Петровиче Шереметеве (1652–1719).Один из наиболее прославленных «птенцов гнезда Петрова» Борис Шереметев первым из русских военачальников нанес в 1701 году поражение шведским войскам Карла XII, за что был удостоен звания фельдмаршала и награжден орденом Андрея Первозванного.
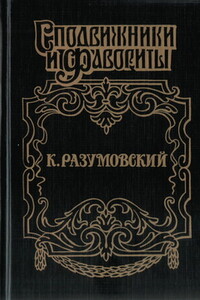
Новый роман современного писателя-историка А. Савеличе-ва посвящен жизни и судьбе младшего брата знаменитого фаворита императрицы Елизаветы Петровны, «последнего гетмана Малороссии», графа Кирилла Григорьевича Разумовского. (1728-1803).
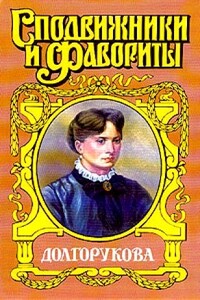
Романы известных современных писателей посвящены жизни и трагической судьбе двоих людей, оставивших след в истории и памяти человечества: императора Александра II и светлейшей княгини Юрьевской (Екатерины Долгоруковой).«Императрица тихо скончалась. Господи, прими её душу и отпусти мои вольные или невольные грехи... Сегодня кончилась моя двойная жизнь. Буду ли я счастливее в будущем? Я очень опечален. А Она не скрывает своей радости. Она говорит уже о легализации её положения; это недоверие меня убивает! Я сделаю для неё всё, что будет в моей власти...»(Дневник императора Александра II,22 мая 1880 года).
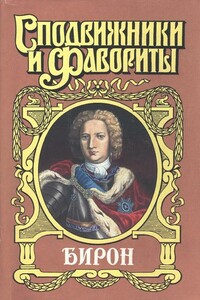
Вошедшие в том произведения повествуют о фаворите императрицы Анны Иоанновны, графе Эрнсте Иоганне Бироне (1690–1772).Замечательный русский историк С. М. Соловьев писал, что «Бирон и ему подобные по личным средствам вовсе недостойные занимать высокие места, вместе с толпою иностранцев, ими поднятых и им подобных, были теми паразитами, которые производили болезненное состояние России в царствование Анны».