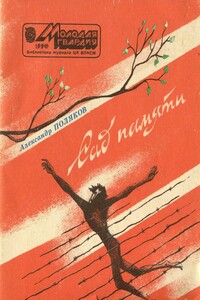Великаны сумрака - [4]
— Почему угличского? Спросим пармезана или бри.
Вспомнилось. Снова надвинулся полумрак сырной лавки, где Юра Богданович с лицом цвета томпакового самовара помогал хмурому Кибальчичу наполнить жестянки едким гремучим студнем. Нет уж, пусть малиновая пастила! Впрочем, какое там. Пастилой закармливала его мама, перед тем как оставить одного в керченской гимназии. Совсем одного — впервые, среди чужих людей. Бедная мама хотела как лучше и подсовывала ему ароматные розовые кусочки, а он плакал и, давясь, жевал их до последнего прощания на пристани. И мама плакала. А он знал теперь, что тоска пахнет малиновой пастилой. Всю жизнь знал. И очень удивился, что в тюрьме III Отделения нет этого запаха — тоска была такой же, как в Керчи. Помнится, дочери керченской хозяйки без конца разучивали гаммы. Хорошо, что втюрьме это было не принято, иначе хоть волком вой. Выходило, что в камере даже лучше.
Вот ведь до чего додумаешься, «слушая голос колес непрестанный». В тюрьме — лучше!
Неужели он похож на слегка поигравшую в революцию Машеньку Гейштих, постаревшую, издерганную, у которой самым светлым воспоминанием было пребывание в Доме предварительного заключения? Загоралась, рассказывала: ах, как пели в камере, как перестукивались, передавали записки на волю, дерзили начальству! Или девица Вандакурова.
Легко отделались эти восторженные барышни. А вот если его, Тихомирова, сейчас арестуют, то повесят, непременно повесят. Вздернут в сером мешке на Иоанновском равелине приснопамятной Петропавловки. (Как Сашу Квятковского и Андрея Преснякова). Не зря же приклеилось к нему прозвище: Тигрыч.
Катюша доела малиновую пастилу. Перешла на пармезан. Он задремал. За минуту приснилось, что где-то под Новороссийском упал в держи-траву — не выбраться. Вырывался не из травы, из держи-сна. Вырвался — обрадованный, смеющийся. И вдруг понял, почему рассмеялся. Как же он раньше не сообразил: ведь на всем пути до Нижнего, а потом до Казани не было ни одного агентурного кружка, ни одной ра- дикальской квартиры, ни одной тайной типографии. Встреча с кем-нибудь из товарищей-народовольцев едва ли была возможной. Так, если случайно.
Прочь, держи-трава. Прочь, держи-прошлое! Какой чистый снег за окном. Стало хорошо, покойно. Кондуктор сообщил: через два часа — Нижний.
А дальше — санный путь до Казани. В дорогу купили полушубки, валенки, войлоки. Долго раздумывали, какой почтой ехать — казенной или вольной? Не спешили: уж если не арестовали в поезде, то теперь-то и подавно не арестуют.
Сперва мчались по большаку, но уже у Лискова спустились на волжский лед и понеслись еще быстрее. Мелькнула торчащая из снега елка, дальше еще одна и еще.
— Скажи-ка, что за чудо-елки на льду? — крикнул в ухо возницы.
— А это значит полыньи, барин. Глаз Волги, — не поворачивая головы, отозвался тот. — Давеча приказчики ехали, не приметили елочку в потемках. Сгинули, Господи пронеси.
Поежился. И тут же сзади раздалось: «Дорогу! Пади, пади!» — как в сочинениях поэта Пушкина. Их обогнала хрипящая, закуржавевшая тройка; ударило колким вихрем, безудержностью жаркого бега, из-под полсти мелькнула голубая пола жандармской шинели — ни с чем не спутаешь. И все унеслось прямо к солнцу в радужной оболочке, и не к одному, а сразу к трем — два солнца сияли вверху, одно внизу, под семицветным кругом. «Кажется, это к скорой метели.»
— Кабы какого злополучия не вышло! — закрутился на облучке возница.
И точно в воду глядел. Не проехали и с полверсты, как сквозь пелену поземки увидели страшную картину. По снегу были разбросаны елочки, а в дымящейся полынье хрипели лошади, уходящие под лед вертикально, как шахматные фигуры. Несчастные животные взбивали копытами густую воду, в которой захлебывался человечек с окровавленной щекой и белыми, вымороженными ужасом глазами. Набухшая шинель с одним уцелевшим золотым погоном тянула вниз, в самый «зрачок» Волги, где только что сгинула тройка с санями и кучером.
— По. Помогите.
Распластавшийся у кромки полыньи возница уже совал бедняге кнутовище. Тихомиров на бегу сбросил шубу и упал в снег рядом. На мгновение поймал взгляд утопающего: «Жандарм! Не он ли брал Капелькина?» Замешкался, одолевая брезгливость, мотнул головой и тут же быстро протянул руку полковнику.
Глава вторая
И зачем только Коленька Капелькин из благодатного Симферополя переехал в Петербург? Это с его-то слабой грудью. К чему он, незаметный судейский письмоводитель, променял солнечный воздух Крыма на мглистый туман невских болот? Уж лучше бы к маменьке в Пензу вернулся.
Самый страшный год — 1878-й. Жить не хотелось. Причина стара, как мир: любовь, разбитое сердце.
Трепетное судейское сердце разбила Дашенька Поплавс- кая, смешливая особа в гроденаплевом платье и с тревожным аламандином в колечке на розовом мизинце. Николай декламировал ей из Надсона — про гнетущую тоску и оскорбленные идеалы. Дашенька вздыхала, боролась с зевотой и, в конце концов, вышла замуж за сына богатого крымского винодела.
Капелькин хотел застрелиться. Но из Петербурга приходили вести — одна интереснее другой. Шумный процесс пропагандистов, выстрел бесстрашной Веры Засулич в градоначальника Трепова; средь бела дня отчаянный Кравчинский закалывает кинжалом шефа жандармов Мезенцева. И возмутительные правительственные репрессалии. Видано ли (о, душители свободы!): теперь всякий уездный исправник вправе заарестовать подозрительных лиц без санкции прокурора! С непокорными разбираются быстрые на расправу военноокружные суды. Студенчество протестует против «Временных правил», стеснительно регламентирующих его жизнь. Газеты называют борцов за народное счастье «великанами сумрака». «Именно так. Именно!» — билось сердце Капель- кина. Ему виделись красивые великаны, которые, совершив подвиг, таинственно пропадают во мраке ночи.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.