Век просвещения и критика способности суждения. Д. Дидро и И. Кант - [19]
Накал костра зависит от культуры (потенциальной энергии) пережигаемого материала.
Для такого костра — мы это знаем — хорош, к примеру, Буше, или Грез, или Фальконе (если вернуться к <Салонам>).
Но лучше всего — Шарден.
Четкость композиции, внутренние, сознательно построенные рефлексы чувства и разума, природы и классицизма самовозжигают огонь просвещенного вкуса. Этот огонь не может не загореться, он — жертвен по замыслу. Картины Буше и Греза могут удовлетворить и варварский вкус, хотя, чтобы их эстетически расшевелить, особенно необходим глаз знатока.
Шарден напрочь запечатан для варварского вкуса.
(Примерно таков смысл той оценки, которую дает Дидро <Атрибута искусства> Шардена…)
Если картины, или симфонии, или идеи не несут в себе внеэстетической культурной нагрузки, если они не будут воинственно содержательны, идейно нацелены, то нечего будет пережигать, тогда просвещенный вкус не выйдет к наслаждению чистой игрой форм, фигур, мелодий.
Но все сказанное — лишь одна сторона дела.
Сейчас пора подчеркнуть другой момент.
В игре познавательных способностей (рассудок — воображение) нет согласно Канту — полной симметрии.
Перекос здесь в сторону воображения.
Форма целесообразности возникает не на полотне и не в- пусть расплавленных — понятиях рассудка, но только в воображении зрителя ил слушателя. Именно в воображении просвещенный вкус замыкается <на себя>.
<Воображение умеет… накладывать один образ на другой и через конгруэнтность многих образов одного и того же рода> получать нечто многообразное, но — единое; цельное, но — динамичное, внутренне неуравновешенное, выходящее за собственные пределы. Нечто? Что это такое? Образ, понятие, впечатление? Это нечто среднее между образом и понятием, взято как возможность новых (бесчисленных) образов и понятий[41].
Среднее — в смысле центральное, изначальное, но не <усредненное>.
Здесь нельзя отделаться усреднением.
Воображение достигает своих целей <путем динамического эффекта, который возникает из многократного схватывания… фигур органом внутреннего чувства>.
Диктует в этом процессе <норма красоты>, но в необычном, странно понимании <нормы>. Не как <идеальная форма>, по которой следует равнят произведения искусства, но как форма (мера) превращения форм, их взаиморождения, их недовольства своей собственной законченностью. Это способ (может быть, точнее, способность) развертывания бесконечной спирали прекрасных форм.
Предвидеть <нормы> означает находить в каждой прекрасной форме ту точку, в которой эта форма переливается в другую, оказывается подчиненной закону метаморфоз, закону Протея.
Норма — это образ (созданный воображением), не могущий уместиться в образе и… переливающийся в разумное <понятие>.
Перекос (игры познавательных способностей) в сторону воображени исчезает.
Воображение расплавляет рассудок, чтобы образовать форму целесообразности (без цели…), но форма целесообразности как раз в точке предельного формализма — в игре форм — перестает быть формой, выходит бесформенное, разрывает любой художественный образ, становится предвидением новой идеи разума (становится созерцанием новой эстетическо идеи).
(Читатель помнит, наверное, что пока я говорю о <предвидении> иде разума не как о цели рефлективных эстетических суждений, но как о невольном итоге деятельности суждения (в сфере эстетики).)
Таким образом Кант схематизировал в антиномию (форма целесообразного без цели) еще один парадокс Дидро. Тот парадокс, в котором наиболее идеальная форма (античная норма) граничит с идеей бесформенного, парадокс, означающий трудность — и необходимость — воспринять ка эстетический образ…. звездное небо.
Но о звездном небе в <Критике…> Канта немного дальше.
Итак, напомню — дефиниция прекрасного, вытекающего из третьего момента (по отношению): <красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели>[42]. г) Последнее определение просвещенного вкуса возникает как осмысление всех предыдущих дефиниций.
Просвещенный вкус наслаждается свободной закономерностью воображения, необходимостью — для всех! — моего вкусового произвола. <Воображение свободно и тем не менее само собой закономерно>. Это определение противоречиво, <заключает в себя антиномию>
Вкус свободен от интереса, но интерес ему необходим для того, чтоб быть преодоленным.
Вкус свободен от понятия, но рассудочное понятие ему необходимо как предмет преодоления.
Вкус свободен от целей, но цель необходима, чтобы преобразовать ее чистую <форму целесообразности>.
Но в чем же все‑таки состоит непосредственная цель (или скажем, п Канту, <форма целесообразности>) всех этих разрушительных опустошений?
Это — пафос общения в его предельной формализации, это — общение, для которого не нужен человек, с которым я общаюсь, это — сворачивание всех внешних форм общения в ячейку общений с самим собо (вспомним Дидро).
Если восстановить всю аналитику прекрасного в целом, то можно сказать, что смысл всех стремлений вкуса — к неопределенным понятиям, целесообразности без цели, к незаинтересованности интереса — состоит одном — достигнуть свободного общения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мое размышление о смысле философии будет осуществлено в двух очерках: в авторском опыте определения (Очерк первый) и — в критике тех форм философствования, что сознательно отрекаются от парадоксальных философских начал (Очерк второй).

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.
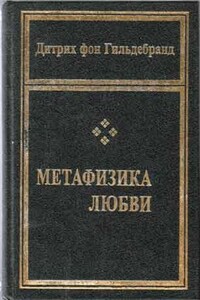
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
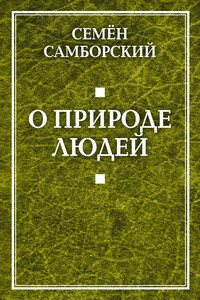
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
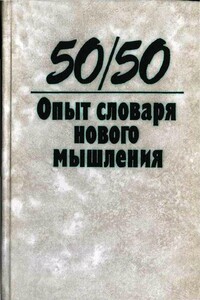
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.
