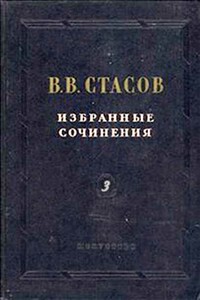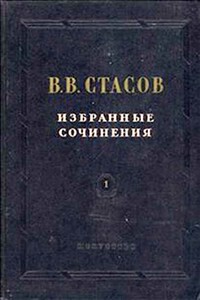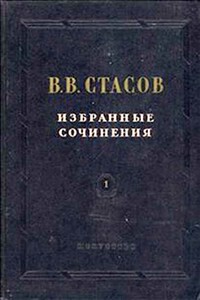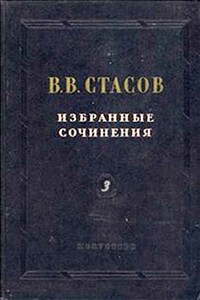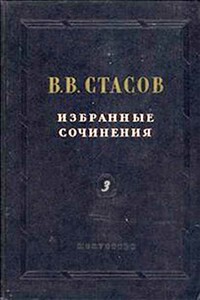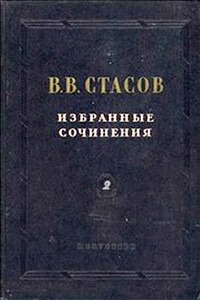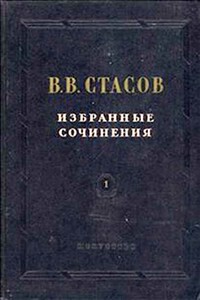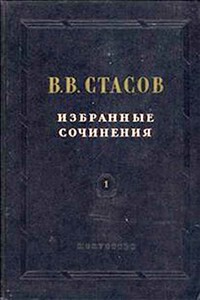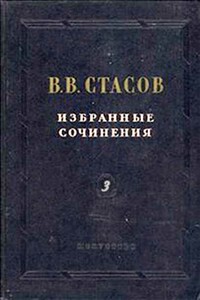После петербургской выставки Верещагин, в течение 1881 и 1882 годов, выставлял сбои картины в Вене, Париже, Берлине, Дрездене, Гамбурге, Брюсселе. Сотни сотен статей, напечатанных повсюду в газетах, засвидетельствовали, как Европа смотрит на талант Верещагина и на его необычайный почин. Везде было высказано, что создания Верещагина — всего более его картины из болгарской войны — что-то совершенно новое и небывалое в искусстве, изображение войны с той стороны, с какой ни один еще живописец не пробовал ее изображать, и это с такою правдою, с такою безыскусственностью, с таким презрением к принятым формам и условности выражения, с таким совершенством техники, каких в Европе никакая „военная“ картина еще отроду не представляла.
Но выше всего изумлялись все широкой и великой душе художника, отсутствию в нем того ложного патриотизма, который, бывало, прежде водил кистью Орасов Верне и сотен ему подобных живописцев. Вся Европа преклонялась перед шириною и светлостью чувства, заставлявших Верещагина видеть людей и во врагах, в остервенелых турках и азиатах… В сотнях статей французских, английских, немецких, бельгийских и венгерских Верещагина называли, то „истинным историком“, [15] то „Тацитом нашего времени“, [16] настоящим „сыном века“, постигшим, что нынче нужно людям от искусства; [17] то „мстящей кистью“ (pinceau vengeur); [18] „прямым продолжателем французских писателей-философов XVIII века“; [19] то „пророком и учителем“; [20] то „апостолом человечности“. [21] „Dresdner Anzeiger“ называл Верещагина „гениальнейшим представителем реализма“ (17 августа 1882 года); „Pester Lloyd“ (14 января 1883 года) говорил, что главная черта Верещагина — „священное стремление к правде“; венский „Börsen Courrier“ (19 апреля 1881 года) объявлял, что „Верещагин борется за высшие блага человечества“; венская „Tribune“ (30 октября 1881 года) провозглашала, что Верещагин „пишет картины кровью своего сердца“; „Pester Lloyd“ (1 февраля 1883 года), что „задача Верещагина — выставить на глаза миру всю чудовищность войны для того, чтоб разбудить у человечества чувство ответственности за такое колоссальное народное несчастье“; „Ueber Land und Meer“ (1882, № 32), что „Верещагину предназначено сделаться живописцем космоса и своею кистью завоевать мир“. Наконец, бесчисленное множество раз Верещагин был назван художником „гениальным“, „колоссальным“, „составляющим эпоху“, „революционером“ и „реформатором“.
Были, конечно, и порицатели — консерваторы, горько плачущие об утрате их насиженных „идеалов“ и о нарушении столь излюбленного в искусстве ничтожества содержания. Эти люди, без сомнения, спешили клеймить Верещагина именем бесшабашного „нигилиста“, не уважающего ничего „священного“ в искусстве, безотрадно давящего все, самое „дорогое“, самое „уважаемое“, самое „почтенное“ в жизни. Один из таких заклятых консерваторов, венский живописец Канон, читал даже (в ноябре 1881 года) публичную лекцию против Верещагина; другие писали, что надеяться, что верещагинская „зараза“ не коснется современных художников Европы. Но таких отсталых консерваторов было вообще немного, и множество иностранных газет с презрением указывали на своих рутинеров и шовинистов, еще с большим презрением и усмешкой говорили о великих невеждах петербургских квасных патриотах, пробовавших укусить Верещагина в пятку. В противоположность этим последним, громадное большинство публики, художников и критиков в один голос говорили о необычайной личности русского художника, которого даже и одна-то техника доходит до изумительных результатов — все равно, и в изображении солнечных стран далекого Востока, и в изображении глубоких снегов на Балканах — все равно, в трагедии и в едкой сатире, и всегда — в изображении несчастья и страдания целых масс людских поколений, даже не дающих себе отчета, из-за чего это они так жестоко страдают. Забыв, каким-то чудом, всякую национальную зависть и ревность, французы и немцы, англичане, бельгийцы и венгерцы говорили и писали, что их новые поколения художников „должны учиться у Верещагина“, [22] что он сказал совершенно новое слово в искусстве и что им открыты новые горизонты для будущего.
Все лучшие современные художники Франции, Англии, Германии, Бельгии (Мейссонье, Невиль, Детайль, Лейтон, Альма Тадема, Макарт, Менцель, Вернер, Амерлинг и т. д.) спешили выразить Верещагину глубокий свой энтузиазм и удивление. Менцель — один из самых тузовых между ними, с восторгом говорил про него: „Этот все может!“ (берлинская „Volkszeitung“, 8 февраля 1882 года). По словам известного венского художественного критика Ранцони, французская знаменитость, Мейссонье, восклицал перед картинами Верещагина: „Это — что-то совершенно новое, небывалое!“ („Naue Freie Presse“, 1 ноября 1880 года). Русские художники еще в 1874 году, как я указал выше, публично выразили свои глубокие симпатии к Верещагину. Антокольский и Репин, бывшие во время первой петербургской верещагинской выставки 1874 года за границей, всем талантливым существом своим горячо полюбили создания Верещагина, когда воротились