Ван Гог - [84]
Этот надрывный возглас — как он не похож на Ван Гога! Значит, он искал этого одиночества в лечебнице, где никто и ничто не мешает ему отдаться уединенному живописанию — целиком и безраздельно, — поскольку в сложившихся обстоятельствах оно одно поддерживает его связь с жизнью. Более того, свои главные упования он возлагает на живопись. Вот когда ему пригодится исцеляющее воздействие этого «утешающего искусства», как назвали они с Гогеном живопись. Он надеется с ее помощью изжить «страх перед жизнью», оставшийся в нем после первого приступа, тем более что уже после месяца жизни и работы в Сен-Реми его «отвращение к жизни несколько смягчилось» (592, 470).
Мысль о том, что его болезнь неизлечима, что он обречен гибели духовной или физической, что каждый новый приступ может оказаться в этом отношении роковым, подстегивает его потребность в работе. Несмотря на три тяжелых приступа, один из которых был очень длительным и надолго вывел его из рабочего состояния, Ван Гог за год жизни в Сен-Реми сделал более ста пятидесяти картин и около ста рисунков и акварелей — в подавляющем большинстве это были пейзажи, — что, как мы увидим, вытекает из особенностей его творчества. Но дело не только в количестве работ, хотя оно само по себе о многом говорит. Можно утверждать, что болезнь, как это ни кажется на первый взгляд парадоксальным, явилась тем роковым и страшным, но поистине достойным его воли и гения противником, борьба с которым заставила Ван Гога подняться еще на одну ступень в своем развитии, реализовать свои возможности до конца. Живопись Ван Гога, возникшая как способ преодоления страданий, как способ самоизживания боли и оформившаяся благодаря его титаническому труду в органическую систему, оказалась способной выдержать такой удар, как его болезнь. «Если же мы немного помешаны — пусть: мы ведь вместе с тем достаточно художники, для того чтобы суметь рассеять языком нашей кисти все тревоги насчет состояния нашего рассудка» (574, 444). Более того, этот новый удар судьбы оказался для этой живописи мощным творческим импульсом к новому подъему — до высот подлинного трагизма. Не без оснований большинство исследователей его творчества считают этот последний период едва ли не высшим выражением вангоговского гения.
Возникает вопрос, не является ли поздняя живопись Ван Гога плодом измененного сознания, сознания, пораженного болезнью, деформирующей восприятие реальности? Такая точка зрения высказывалась некоторыми исследователями, особенно психологами и психиатрами, далекими от понимания проблематики искусства нового времени и видевшими в необычности почерка Ван Гога проявления патологической психики. Наряду с попытками, иногда имеющими научную ценность, установить связь между психикой художника и психологией его творчества, а также эволюцией стиля 2, его творчество использовалось как источник информации для изучения искусства душевнобольных, для патографии, получившей значение науки в последние десятилетия 3. Однако историки искусства и искусствоведы, писавшие о Ван Гоге, в своем подавляющем большинстве сходятся на том, что «творчество Ван Гога проявление гения, а не безумия», как сказал крупнейший знаток Ван Гога де ла Фай 4. В пользу этого утверждения говорит не только действительная гениальность Ван Гога, ставящая его над нормами, предъявляемыми к сознанию обычных людей, но и тот явный факт, что между приступами болезни он проявлял полную ясность интеллектуальных способностей, волю к постановке творческих проблем, оказавших особенно заметное влияние на последующее развитие искусства, и объективное, здравое отношение к своей болезни. Эта поразительная способность к самоконтролю «бросает вызов медицинским диагнозам» 5.
Возможно, что болезнь Ван Гога какими-то сложными путями, анализ которых не входит в нашу компетенцию, взаимодействовала с его духовно-психической структурой 6. Однако мы имеем дело с этой человеческой структурой как сложным и единым целым, выдвинувшим Ван Гога в ряды «гениев рубежа», поскольку в проблематике искусства этого времени, обусловленной в своей противоречивости сменой двух эпох в самосознании европейского культурного мира, такие сложные, противоречивые «цельности», как Ван Гог, и могли сказать свое решающее слово.
Во всяком случае, Ван Гог, писавший о том, что между его художническим ростом и душевным и физическим надрывом существует прямая связь, оказался прав. Именно теперь, когда процесс дезинтеграции и отчуждения художника и общества завершился, — он оказался «заключенным» в одиночку, не находящим сил видеть даже немногих друзей, — его живопись как способ преодоления этого разрыва и отчуждения обнаруживает новые, еще неведомые возможности. По характеру символической «переработки» переполняющих его чувств она еще больше приближается к языку, оперирующему «говорящими» живописно-предметными знаками. С этой точки зрения Ван Гог достигает наибольшей адекватности в использовании живописи как средства самовыражения и коммуникации (вспомним, какое значение имело в его жизни слово). В этом проявляется одна из противоречивых закономерностей развития такого искусства. Окончательно «освободившись», в силу трагических обстоятельств, от всех форм контекстов — общественного, социального, бытового, жизнетворческого (Ван Гог навсегда отказался от своих «честолюбивых замыслов»), живопись приобретает значение неотъемлемого атрибута его личности, целиком сосредоточившейся в сфере духовной жизни.
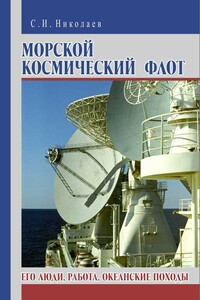
В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
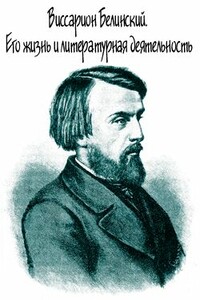
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Всем нам хорошо известны имена исторических деятелей, сделавших заметный вклад в мировую историю. Мы часто наблюдаем за их жизнью и деятельностью, знаем подробную биографию не только самих лидеров, но и членов их семей. К сожалению, многие люди, в действительности создающие историю, остаются в силу ряда обстоятельств в тени и не получают столь значительной популярности. Пришло время восстановить справедливость.Данная статья входит в цикл статей, рассказывающих о помощниках известных деятелей науки, политики, бизнеса.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.