Ван Гог - [82]
Разве то, чему учат нас японцы, простые, как цветы, растущие на лоне природы, не является религией почти в полном смысле слова?
Мне думается, изучение японского искусства неизбежно делает нас более веселыми и радостными, помогает нам вернуться к природе, несмотря на наше воспитание, несмотря на то, что мы работаем в мире условностей» (542, 406).
Небезынтересно отметить, кстати, что эти мысли ему приходят при чтении книги Льва Толстого «В чем моя вера?», реформаторские попытки которого перестроить христианство в новое этическое учение о нравственном самоусовершенствовании человека, как известно, отразили на себе влияние буддизма и других восточных религий. Ван Гог с большим интересом и сочувствием отнесся к идеям Толстого, в которых нашел ответ на мучившие его вопросы. «Толстой, как мне представляется, выдвигает следующую мысль: независимо от насильственной, социальной революции должна произойти внутренняя, невидимая революция в сердцах, которая вызовет к жизни новую религию или, вернее, нечто совершенно новое, безымянное, но такое, что будет также утешать людей и облегчать им жизнь как когда-то христианство.
Мне думается, книга эта очень интересна; кончится тем, что людям надоест цинизм, скепсис, насмешка и они захотят более гармоничной жизни. Как это произойдет и к чему они придут? Было бы смешно пытаться это предугадать, но УЖ лучше надеяться на это, чем видеть в будущем одни катастрофы, которые и без того неизбежно, как страшная гроза, разразятся над цивилизованным миром в форме революции, войны или банкротства прогнившего государства» (542, 405–406).
Он сам мечтает «сказать картинами нечто утешительное, как музыка», и японцы, которые для него самого сыграли эту роль утешителей, являются в этом отношении образцом.
Но образец никогда не определяет сущность, скорее, сущность определяет выбор образцов. Противоречивая сущность Ван Гога претерпевает ряд трансформаций, и арльская метаморфоза в «поклонника Будды», «прикоснувшегося» к Японии, — лишь одна из них. Не зря бесчисленные упоминания Японии и «японщины», которыми наполнены письма Ван Гога арльского периода, после одного тяжелого приступа становятся все реже и вскоре прекращаются вовсе 77.
С этой точки зрения упоминавшийся автопортрет Ван Гога особенно интересен как воплощение сознаваемого самим художником несоответствия его сущности с принятым на себя званием «бонзы, поклонника Будды».
Автопортрет был написан в сентябре 1888 года в обмен на автопортрет Гогена, присланный из Понт-Авена по настоянию Ван Гога.
Последний изобразил себя, как явствует из комментария, сопровождавшего картину, «импрессионистом наших дней», этаким «Жаном Вальжаном, преследуемым обществом и поставленным вне закона». Эта точка зрения, близкая Ван Гогу парижского периода, в данный момент показалась ему слишком пессимистической, и он вступает со своим другом в своеобразную полемику средствами живописи.«…Я написал ему, что, поскольку и мне позволено преувеличить свою личность на портрете, я попытаюсь изобразить на нем не себя, а импрессиониста вообще. Я задумал эту вещь как образ некоего бонзы, поклонника вечного Будды. Когда я сопоставляю замысел Гогена со своим, последний мне кажется столь же значительным, но менее безнадежным» (545, 413).
Он прибегает к своеобразному маскараду, надев на себя коричневую куртку с голубыми отворотами — одежду, отдаленно напоминающую одеяния буддийских монахов, а глаза стилизует «по-японски — чуть косо» (545, 414). Однако в лице нет ни тени буддийского самосозерцания, растворения в вечности. Напротив, художник подчеркивает драматическую напряженность внутреннего состояния; он вложил в эти косо поставленные глаза и сильные, судорожно сведенные скулы такую силу воли, такую целеустремленность, которые должны были, по-видимому, внушить Гогену веру в их общее дело. Эта волевая «маска» «импрессиониста вообще», этот «буддийский» маскарад, вызванные намерением «преувеличить» свою личность, то есть изобразить «не себя», а некую «программу», выдают с головой раздвоение и рефлексию, типичные для Ван Гога и говорящие скорее о его принадлежности к постромантикам, нежели к мудрецам и мастерам дзэн.
Арльская модификация его личности имеет отношение к тому явлению европейской культуры, которое глубоко вскрыл А. В. Михайлов: «Очевидно, что романтизм — это исчерпание религиозности, которая в романтизме является как бы единством и слитностью двух полюсов: трансцендентальной религии и безбожия… И притом романтизм имплицирует атеизм именно постольку, поскольку его религиозность преодолевает самое себя — углубляясь и возрастая в такой мере (а также приобретая оттенок эстетизма), что она превосходит всякие исторические формы религии, выхолащивается внутренне при предельной самонасыщенности — насыщенности именно самою собой» 78.
«Многобожие» Ван Гога безусловно «превосходит все исторические формы религии», а его вера в чистый цвет дает пример выхолащивания религиозности «при предельной самонасыщенности — насыщенности именно самою собой», приводящего к перенесению на искусство понятий и норм утраченной веры.

Книга американского журналиста Питера Даффи «Братья Бельские» рассказывает о еврейском партизанском отряде, созданном в белорусских лесах тремя братьями — Тувьей, Асаэлем и Зусем Бельскими. За годы войны еврейские партизаны спасли от гибели более 1200 человек, обреченных на смерть в созданных нацистами гетто. Эта книга — дань памяти трем братьям-героям и первая попытка рассказать об их подвиге.

Предлагаемый вниманию читателей сборник знакомит с жизнью и революционной деятельностью выдающихся сподвижников Чернышевского — революционных демократов Михаила Михайлова, Николая Шелгунова, братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, Владимира Обручева, Митрофана Муравского, Сергея Рымаренко, Николая Утина, Петра Заичневского и Сигизмунда Сераковского.Очерки об этих борцах за революционное преобразование России написаны на основании архивных документов и свидетельств современников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
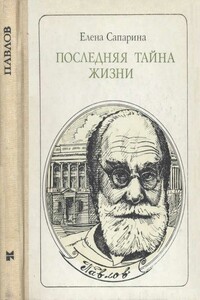
Книга о великом русском ученом, выдающемся физиологе И. П. Павлове, об удивительной жизни этого замечательного человека, который должен был стать священником, а стал ученым-естествоиспытателем, борцом против религиозного учения о непознаваемой, таинственной душе. Вся его жизнь — пример активного гражданского подвига во имя науки и ради человека.Для среднего школьного возраста.Издание второе.

В этом романе читателю откроется объемная, наиболее полная и точная картина колымских и частично сибирских лагерей военных и первых послевоенных лет. Автор романа — просвещенный европеец, австриец, случайно попавший в гулаговский котел, не испытывая терзаний от утраты советских идеалов, чувствует себя в нем летописцем, объективным свидетелем. Не проходя мимо страданий, он, по натуре оптимист и романтик, старается поведать читателю не только то, как люди в лагере погибали, но и как они выживали. Не зря отмечает Кресс в своем повествовании «дух швейкиады» — светлые интонации юмора роднят «Зекамерон» с «Декамероном», и в то же время в перекличке этих двух названий звучит горчайший сарказм, напоминание о трагическом контрасте эпохи Ренессанса и жестокого XX века.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.